ГЛАВА ВОСЬМАЯ «Амаду» означает «Любимый»
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
«Амаду» означает «Любимый»
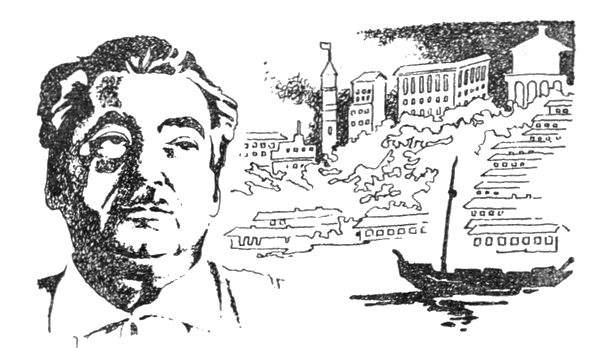
Накануне своего отлета из Бразилии Виталий решил съездить в Салвадор и спросил, не хочу ли я отправиться туда вместе с ним. Речь шла не о том Сальвадоре, что находится в Центральной Америке, а о столице Баии — северо-восточного бразильского штата. Я уже знал понаслышке, что Баия — это что-то вроде колыбели, в которой зародилась бразильская нация, и, перефразируя слова древнерусской летописи, о ней можно сказать, что это — то самое место, «откуда есть пошла бразильская земля». Именно там, у берегов будущей Баии, высадился 22 апреля 1500 года первооткрыватель Бразилии португальский мореплаватель Педро Альварес Кабрал. И именно столица Баии город Салвадор стал первой столицей новой заокеанской португальской колонии, уступив это звание в 1763 году Рио-де-Жанейро.
В журналистике — эта истина уже была твердо усвоена мной — ни в коем случае нельзя откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, тем более, когда объявляется такой интересный и энергичный попутчик, как Виталий Боровский. История с репортажем о кофе служила тому наглядным подтверждением. И, не колеблясь, я согласился. Мы полетели в Салвадор, уговорившись провести там дня два-три, не больше: у Виталия заканчивался срок действия бразильской визы, и к концу недели ему нужно было возвращаться в Сантьяго.
В «Каравелле» компании «Крузейро» облаченная в красную шапочку и красную накидку стюардесса вручила нам газеты. Виталий пробежал острым взглядом заголовки и сокрушенно покачал головой:
— Вот так всегда бывает в нашей репортерской жизни: ты летишь в одно место, а главное событие дня происходит совсем в другом.
Я глянул через его плечо. «Ултима ора» сообщала о побеге трех американцев-контрабандистов из столичной тюрьмы. Точнее говоря, не из тюрьмы, а из казармы пожарной команды Бразилиа. Молодая столица, которой к тому времени исполнилось всего пять лет, была, так сказать, «сдана в эксплуатацию» с недоделками. В городе, в частности, отсутствовала тюрьма, вследствие чего преступников держали пока под замком у пожарников, которые относились к этой «нагрузке» с прохладцей, справедливо полагая, что их дело: тушить пожары, а не стеречь правонарушителей. Этим-то и воспользовались Сэм Сэксто, Джозеф Маккутен и Джозеф Трухил, направлявшиеся сейчас под отчие небеса.
— Нам следовало бы немедленно лететь туда и разматывать это дело с максимальным треском, — сказал Виталий, постукивая ногтем по заметке.
— А зачем? — удивился я. — Что-то я не помню, чтобы «Правда» публиковала сообщения уголовной хроники.
Виталий укоризненно поглядел на меня и вздохнул.
— Посмотри! — сказал он и отчеркнул фломастером два абзаца. Я глянул и присвистнул: беглецы были не просто жуликами. Они занимались разведкой и контрабандой золота и стратегических минералов, в том числе сырья, имеющего отношение к атомной индустрии!
— Чувствуешь, чем пахнет?..
Я согласился. Заметка пахла сенсацией. Но мы, увы, летели не в Бразилиа, а в Салвадор.
Поездка в Баию понадобилась Виталию потому, что он надеялся встретиться там с жившим в Салвадоре Жоржи Амаду. Но вслух об этом, естественно, не говорилось, ибо Боровский, как большинство журналистов, был суеверен, опасался «спугнуть», «сглазить» задуманное. Уже там, на месте, когда на следующее утро после прилета мы вышли из отеля «Плаза» на шумную, переполненную людьми и автомобилями авениду «7 сентября», он сказал задумчиво, как бы размышляя вслух, словно не будучи уверен, стоит ли это делать, сказал так, будто идея эта лишь сию минуту пришла ему в голову: «А не съездить ли нам к Жоржи Амаду?..»
— Надо было бы позвонить ему из Рио, узнать, сможет он нас принять или нет, — заметил я. Виталий улыбнулся.
— Нет, брат, в нашем деле — во всяком случае, в таких ситуациях, как эта, — протокольные церемонии ни к чему. Тут лучше действовать методом кавалерийской атаки: когда мы появимся в дверях и скажем, что ради встречи с ним приехали из Москвы, разве сможет он нам отказать?
— А как мы узнаем его адрес?
— Я уверен, — сказал Виталий, — что адрес такого человека должен знать тут каждый водитель такси.
Он опять оказался прав, мой мудрый друг и наставник: первый же водитель, которого мы об этом спросили, широко улыбнулся и сказал:
— Сеньор Жоржи? Да кто же его не знает?! К нему ездит каждый гринго, которого судьба заносит к нам, в Баию. Я еще вчера отвез к нему троих немцев. Они, правда, не попали к сеньору Жоржи: служанка сказала, что его нет дома. Как приехали на мне, так на мне и уехали обратно.
Мы с Виталием переглянулись, и он ободряюще подмигнул: «Не робей».
А таксист вез нас тем временем куда-то на окраину, на узкую, извивающуюся между небогатыми, крытыми черепицей домиками улицу Алагоиньяс. И остановился у светлого особнячка под 33-м номером. Дом был действительно «светлый»: он заметно выделялся среди остальных строений. Но не пышностью, не размерами, а какой-то удивительной пропорциональностью, гармонией линий, рациональной простотой и изяществом отделки. Это было заметно во всем, вплоть до «азулежос» — керамической облицовки стен и лестницы, ведущей от входной калитки к узкой двери, приподнятой метра на два над уровнем земли. На светло-голубых плитках были схематически обозначены темно-синие фигуры, в которых угадывались очертания тропических плодов, диковинных птиц и зверьков, символизировавших, видимо, щедрость байанской земли.
…Встреча с Жоржи Амаду была хрустальной мечтой, которую я давно уже холил и лелеял, готовясь к ней, как футболист готовится к финальному матчу на первенство мира: проигрывал различные варианты, разрабатывал хитроумные стратегические планы. Поскольку великий писатель очень занят, нужно придумать, как к нему подступиться. Может быть, воспользоваться помощью кого-нибудь из знакомых с ним бразильцев, попросив у них рекомендательное письмо? Или прибегнуть к содействию пресс-атташе советского посольства? А может быть, мне самому написать сеньору Жоржи вежливое послание, представиться, попросить о встрече? Он назначит день и час. Я приезжаю. Звоню из гостиницы: Мне говорят: «Сеньор Жоржи вас уже ждет».
Словом, вариантов было много, но среди всех этих «домашних заготовок» не было ничего напоминающего наш бесцеремонный и стремительный кавалерийский наскок. Добро бы еще мы пытались захватить врасплох какого-нибудь чужого человека, нужного нам, но уклоняющегося от встречи. Тогда метод Макиавелли «цель оправдывает средства» мог бы показаться приемлемым. А тут мы, можно сказать, нападаем из засады на друга нашей страны, на человека, который, разумеется, согласился бы встретиться с нами, предупреди мы его заранее…
Такие примерно мысли обуревали меня, когда мы стояли у черной, сплетенной из металлических прутьев калитки, ожидая, как кто-нибудь в доме откликнется на наш звонок. И в эту минуту я отчаянно злился на Виталия и втайне даже надеялся, что никого в этом доме не окажется. А когда светлая дверь все же отворилась и по каменной лестнице, орнаментированной осколками голубых «азулежос», к нам вниз пошла смуглая молодая женщина, я поспешил в самом прямом смысле этого слова спрятаться за спину Боровского. Я твердо решил поменьше раскрывать рот, пошире раскрыть глаза и побольше слушать, набираясь ума-разума рядом с бывалым коллегой, который — как уже неоднократно можно было убедиться — при всей своей мягкости и интеллигентности был способен идти к поставленной цели настойчиво, как ледокол.
А дальше все было именно так, как и предвидел Виталий. Мы представились этой молодой женщине. Она пригласила нас подняться, попросила подождать минуточку и вышла. Мы осмотрелись, увидели, что находимся в гостиной, напоминающей зал музея народного творчества: на полках и стеллажах были расставлены сотни сувениров и игрушек из глины, камня, дерева, металла. И тут же к нам вышел хозяин этого дома: коренастый, неторопливый, в просторной красной рубахе, серых шортах и сандалиях на босу ногу. Он был спокоен и сосредоточен, словно тамада за грузинским столом. Он поздоровался, поинтересовался, чем может быть полезен, услышал в ответ от Виталия просьбу об интервью, «ради которого и добирался он, Виталий, сюда из Москвы по поручению газеты „Правда“».
Легкая улыбка тронула начинающие седеть усы этого человека, и мы почувствовали, что мудрый сеньор Жоржи все видит, все понимает и нам нет нужды прибегать к дешевым трюкам и к профессиональной патетике. Он с удовольствием побеседует с советскими друзьями, но не сию минуту, а завтра: сейчас он должен уехать, его уже ждут. А если у нас есть желание ознакомиться с городом, то он готов предоставить в наше распоряжение прямо сейчас свою машину и попросит Зору — он посмотрел на молодую женщину, которая встретила и проводила нас в дом, — помочь нам, показать все то, что достойно быть увиденным в этом лучшем из всех городов на нашей грешной земле. Сеньор Жоржи улыбнулся, развел руками, словно извиняясь, что сам не может сопровождать нас, и вышел.
И все так и было: мы сели в машину, и целый день нас возили по этому удивительному городу помощница Жоржи Зора и его дочь — пятнадцатилетняя Палома.
Даже сейчас, когда я пишу эти строки спустя два десятка лет после той феерической — другого слова не подберешь! — поездки по Салвадору, меня вновь охватывает сладкая волна восторга и изумления. Я вновь переживаю то неожиданное потрясение от встречи с этим тропическим городом, пропитанным соленым запахом моря. Из калейдоскопа впечатлений память выхватывает самые яркие кадры: шумный и грязный рынок Меркадо Модело, где в маленьком ресторанчике «Мария де Сан-Педро» Зора угощала нас экзотическими шедеврами байанской кухни, сдобренными нестерпимо острыми приправами. Вспоминается библиотека монастыря Святого Франциска, где мы окунулись в затянутый паутиной, запорошенный пылью мир XVII века с его необъятными фолиантами на гигантских пюпитрах, с древним глобусом, черепом на столе и сухой чернильницей, из которой торчало гусиное перо. Потом была «Школа капоэйры» — маленький спортзал, точнее говоря — не очень большая комната, в которой мы наблюдали урок древней африканской борьбы, превратившейся в последние годы в любопытную смесь танца и спортивного состязания. А вечером — за городом, в большом деревянном бараке, освещенном неверным светом десятков свечей, хоровод кандомбле — языческого культа, пришедшего в Баию вместе с черными невольниками из Африки.
И на следующий день после этого фейерверка впечатлений пришли мы вновь в дом на улице Алагоиньяс, чтобы — наконец-то! — побеседовать с «местре», как уважительно зовут там, в Бане, сеньора Жоржи. «Местре» — это синоним понятий «маэстро», «учитель», «мастер».
Остановившись перед дверью 33-го дома по улице Алагоиньяс, Виталий строго посмотрел мне в глаза и отечески напомнил:
— Старик! Тебе, я надеюсь, хорошо известны нормы журналистской этики. И ты знаешь, что за интервью сюда приехал я. А ты приехал со мной. И поэтому, пока я буду беседовать со стариком, ты обязан хранить гробовое молчание. А уж потом, когда я отыграю свои вопросы, тогда ради бога: можешь спросить у него что-нибудь и для себя, чтобы и у тебя появилось право сказать когда-нибудь в одном из твоих опусов, «как рассказал мне однажды Жоржи Амаду»…
Виталий сказал это и нажал кнопку звонка. И мы опять были встречены тепло и приветливо. Прошли в гостиную, сели в мягкие кресла, и я приготовился получить от Виталия еще один урок: поучиться у него искусству ведения интервью. И даже не стал отвлекаться разглядыванием картин и сувениров, хотя и сознавал, что опытный журналист на моем месте успел бы их рассмотреть. Они пригодились бы ему для создания настроения при описании окружающей писателя атмосферы этого дома. Но я не умел еще тогда ловить сразу двух зайцев: слушать интервью, которое ведет Виталий, и глазеть по сторонам. Впоследствии я понял, что, если хочу стать профессионалом, необходимо научиться распределять свое внимание: фиксируя главное, не упускать из поля зрения и второстепенное. А тогда, в доме Жоржи Амаду, я целиком сосредоточился на одном: на беседе Виталия с хозяином дома.
И, с благоговейным трепетом прислушиваясь к диалогу моего коллеги с Мастером, я вдруг почувствовал, что что-то в этой беседе не клеится: интервью получалось какое-то заземленное, будничное. Мне казалось, что все то, о чем спрашивал своего собеседника Виталий, уже было известно и Виталию, и мне.
«На скольких языках изданы Ваши книги?..» — «На тридцати». Мы знали об этом, потому что об этом не раз писали все, кто до нас встречался с Жоржи Амаду. «Каковы тиражи Ваших книг в Бразилии и за рубежом?» Ответ и на этот вопрос не был для нас новостью: даже небывалые по бразильским представлениям тиражи книг Жоржи Амаду на его родине уступают астрономическим тиражам его романов в Советском Союзе.
«Каковы Ваши творческие планы?» — спрашивает Виталий. И сеньор Жоржи отвечает, что вообще-то он не любит говорить о будущих книгах, ибо сам не знает, какой получится у него книга, до тех пор, пока не поставит точку в конце последней главы. Но сейчас он может ответить на этот вопрос. Ибо очередная книга почти готова. Это не роман. Это книга о Баие. Нечто вроде эссе. Гимн родной земле. Там будут фотографии Флавио Дамма, — одного из известнейших бразильских фотографов. И рисунки Карибе — «одного из лучших наших художников, может быть, самого байанского художника, хотя он, как это ни покажется странным, по происхождению не байанец и даже не бразилец: родился в Аргентине, по приехал сюда, стал бразильцем, живет у нас в Баие, и трудно найти другого художника, который так чутко и зорко чувствовал бы и понимал нашу землю».
— Как, простите, имя этого художника? — переспрашивает Виталий.
— Ка… ри… бе…
Виталий пишет, показывает написанное сеньору Жоржи, Мастер проверяет, утвердительно кивает головой. А меня начинает распирать злость: зачем писать все это в блокнот? Не лучше ли было бы воспользоваться магнитофоном? Микрофон, бывает, поначалу пугает и сковывает людей, но к нему быстро привыкают, через пять-десять минут собеседник перестает обращать на него внимание, и беседа идет плавно, человек охотно раскрывается перед тобой.
— Извините! — В комнату входит женщина средних лет, черноволосая, густобровая, как украинка, с морщинками у глаз, теми самыми морщинками, о которых Марк Твен сказал, что они могут быть только следами прошлых улыбок. В руках у нее поднос: кофе, соки, печенье. Мы уже знакомы с ней: дона Зелия, жена Жоржи.
— Извините, что мешаю вашей беседе, но хотела бы угостить вас кофе.
— Ничего, ничего, — говорит Виталий, закрывая блокнот. — Мы в принципе уже почти закончили. Вот, может быть, мой коллега пожелает задать сеньору Жоржи какой-нибудь вопрос. — Он поощрительно похлопывает меня по плечу. Чувствую, что он доволен и интервью своим, и мной он тоже доволен: я проявил такт, не нарушил неписаных норм журналистской этики.
Дона Зелия разливает по чашечкам кофе, сеньор Жоржи дружелюбно смотрит на меня в ожидании, а у меня, как назло, вылетел из головы этот вопрос, который я вынашивал со вчерашнего дня. То есть не сам вопрос, а его перевод на португальский. Я мучительно вспоминаю заготовленную и напрочь забытую фразу, чувствую, что даже краснею от напряжения, но не могу вспомнить и, поскольку все вопрошающе глядят на меня, выпаливаю первое, что пришло в голову:
— У вас очень красивый дом…
Сеньор Жоржи улыбается и покачивает головой в знак согласия. Дона Зелия, которая в эту минуту ставит передо мной чашечку кофе, говорит:
— Да, он всем нравится. Его помогали отделать наши байанские друзья, художники и архитекторы. И знаете, кого мы должны благодарить за этот дом? — спрашивает дона Зелия. — Габриэлу…
Мы с Виталием удивленно поворачиваемся к сеньору Жоржи. Он улыбается в седеющие усы и прихлебывает кофе.
— Да, да, — говорит его жена, усаживаясь на диван. — Жоржи продал американской кинофирме «Метро» авторские права на экранизацию «Габриэлы», и на эти деньги мы построили дом.
— А фильм? — спрашиваю я.
— Фильм до сих пор так и не снят, — говорит дона Зелия.
— К счастью, — добавляет сеньор Жоржи. — Надеюсь, что этого никогда не случится.
— Мы хотели, чтобы дом был типично байанский, — говорит дона Зелия, и, услышав слова «типично байанский», сразу же вспоминаю вопрос, который хотел задать хозяину дома:
— Сеньор Жоржи, я работаю в Бразилии совсем недавно, всего несколько месяцев, и в Баию приехал впервые, но уже много раз слышал, что Баия — это самый типичный бразильский штат, что душа Бразилии живет в Баие. Это правда? И если это правда, то объясните, пожалуйста, почему именно Баия приютила у себя «душу Бразилии». И вообще: что это такое — «бразильская душа»?..
— Конечно, душа страны нашей живет в Баие, — говорит сеньор Жоржи и ставит на столик чашечку кофе, словно давая понять, что время безмятежной болтовни кончилось, и сейчас начнется настоящий и серьезный разговор.
— Конечно, — повторяет он еще раз, смотрит в светлый, выложенный бело-голубыми изразцами пол, собирает морщины на лбу и начинает говорить неторопливо, словно размышляя вслух. Он говорит, что именно здесь, в Баие, родилось большинство обычаев и традиций бразильцев. Что именно на этой земле сложилась бразильская нация, вобравшая в себя все лучшее, что было в трех ее прародителях, в трех великих народах, которые смешали свою кровь, чтобы дать жизнь Бразилии: африканские негры, древнебразильские индейцы и выходцы из Португалии. Он говорит, что именно из этого великого смешения, этой случившейся именно на земле Баии встречи Америки, Африки и Европы, родилась не только этническая сущность бразильской нации, но и вся бразильская культура, характер, темперамент, словом, все то, что сегодня составляет неповторимый облик этой страны и ее людей. И поэтому именно здесь, в Баие, можно особенно хорошо почувствовать все самые лучшие, самые яркие и достойные уважения черты бразильцев. Например, демократизм.
— Вы видите на наших улицах людей разного цвета кожи, негров здесь больше, чем в Рио или в любом другом районе страны. Но вы никогда не заметите никаких расовых предрассудков и предубеждений. И если попытаться назвать самые типичные черты байанского характера, которые свойственны и остальным бразильцам, то это будут именно демократизм, простота, сердечность, присущая нам способность всегда по-братски встретить любого гостя нашей Земли…
Жоржи говорит вдохновенно и горячо. Он рассказывает о своих земляках, о друзьях и товарищах. Мы чувствуем, что он гордится своей землей, любит ее и счастлив, что живет и работает именно здесь. Он говорит о жизни людей, преисполненной страдания и горя, ведь подавляющее большинство сынов этой земли — нищие, бедняки, парии. Но при всех неурядицах, лишениях и несчастьях байанам, подобно всем остальным бразильцам и в большей степени, чем остальным бразильцам, присущи оптимизм, жизнелюбие, вера в то, что рано или поздно жизнь изменится к лучшему.
…Жоржи говорил долго, взволнованно, страстно. И мы слушали его с тем же волнением и трепетом, с каким он говорил. И Виталий, слава богу, не раскрывал свою записную книжку и не переспрашивал, как пишется слово «кандомбле» и что означает понятие «террейро». И дона Зелия не предлагала вновь наполнить пустые кофейные чашки. И никто не входил в эту комнату, словно озаренную вдохновением и радостью.
Возвращаясь в гостиницу, мы молчали, потрясенные этой неожиданной вспышкой. А затем в номере, стоя у окна, выходящего на океан, Виталий достал из кармана записную книжку, пролистал ее и сказал:
— Черт знает, отчего это случается: сидишь, задаешь важные и нужные вопросы, слушаешь правильные и обстоятельные ответы, и все вроде бы хорошо, гладко, прямо по учебнику, а потом приходишь домой и видишь, что все не так, все не то. Умно, правильно, но неинтересно. Но кто мне скажет, как заранее узнать, от какого вопроса загорится и разговорится твой собеседник?..
Вскоре я понял, что именно в этом — в умении «разбудить», зажечь своего собеседника — и кроется высшее искусство и, может быть, главная тайна журналистики. С Жоржи Амаду я больше так и не встретился там, в Бразилии. Но продолжал следить за его творчеством, читал все, что выходило из-под его пишущей машинки (я не сказал: «из-под его пера», ибо знаю, что он пишет только на машинке), собирал рецензии и интервью, которые брали у него бразильские и зарубежные журналисты. И, разумеется, размышлял о его книгах, о его героях. Пытался постичь причины его феноменального успеха в своей стране и за рубежом. И спустя уже много лет после той единственной встречи с писателем в Баие, к 70-летию со дня рождения Мастера, появился очерк. Нечто вроде попытки понять, в чем секрет неотразимого профессионального обаяния «сеньора Жоржи» и неугасимого интереса, который вызывают у людей его романы. И все, что он пишет. Я хочу процитировать его в этой книге.
* * *
«Несколько лет назад на Цейлоне (это было в те времена, когда государство это еще не называлось Шри Ланкой) Жоржи Амаду и его жена, находившиеся проездом в том далеком уголке света, случайно встретились за утренним кофе с единственным, кроме них, постояльцем маленькой гостиницы. Как всегда бывает в таких ситуациях, за учтивыми поклонами и скупыми замечаниями о погоде последовали взаимные представления. Узнав, что имеет дело с бразильцами, исландец пришел в волнение и спросил, не знакомы ли они случайно с великим писателем из их страны — Жоржи Амаду. Дело в том, что он только что прочитал изданное недавно на исландском языке „Мертвое море“, пришел в восторг и был бы счастлив выразить свою признательность соотечественникам автора этой поистине выдающейся книги…
Итак, бразильский роман на исландском языке на острове Цейлон! Согласитесь, что трудно представить себе иную ситуацию, которая столь наглядно рисовала бы поистине безграничную популярность писателя, произведения которого печатаются почти на четырех десятках языков мира: от английского до вьетнамского, от китайского до арабского. Десять лет назад, когда Жоржи Амаду отмечал свое 60-летие, бразильский журнал „Вежа“ сообщил, что только на родине книги его изданы тиражом два с половиной миллиона экземпляров. И это в стране, где более половины населения неграмотно и где книге крайне трудно оторвать человека от экрана телевизора, транслирующего бесчисленные футбольные матчи!
Видимо, было бы не очень этично безапелляционно присвоить Жоржи Амаду „звание“ лучшего писателя Бразилии: в конце концов на вкус и цвет, как говорится, товарища нет, бразильская литература очень богата талантами и яркими именами, да и вообще литература — это не спорт с его объективными показателями, выраженными в голах, очках и секундах. Давно уже не секрет, что даже астрономические тиражи книг далеко не всегда способны служить пропуском на литературный Олимп и в сердца людей, понимающих толк в хорошей литературе. Вспомним, например, авторов „комиксов“ типа Микки Спиллейна или даже таких, претендующих на звание писателя книгопеков, как Ирвин Уоллес. Обо всем этом можно спорить бесконечно долго, но в любых литературных спорах дискуссия сразу же угасает, когда произносится имя Жоржи Амаду. И когда неожиданно осознаешь, какой глубокий символ несет в себе фамилия писателя: ведь „Амаду“ в переводе на русский означает „любимый“… Да, он действительно любим и почитаем. Безусловный авторитет этого имени у критиков и читателей сомнению не подлежит. И хочется спросить: почему?
В чем же причина этой не знающей границ и языковых барьеров читательской любви? Почему Габриэла, Педро Арканжо, дона Флор или Тереза Батиста с такой легкостью завоевывают сердца и души русских и японцев, французов и австралийцев, мексиканцев и англичан? Пытаясь найти ответы на эти вопросы, можно, вероятно, говорить о величайшем таланте писателя, о его доведенном до филигранной тонкости владении всеми секретами литературного ремесла, о силе его воображения, способного с одинаковой легкостью зажечь и увлечь и книжника-сноба, ищущего утонченных литературных эмоций, и бесхитростного читателя, привыкшего довольствоваться хитроумной интригой или щедрыми сексуальными сценами. Правомерно, видимо, было бы отметить и еще одно обстоятельство: подавляющее большинство героев Жоржи Амаду — простые люди, воплощающие в себе самые типические и характерные черты бразильской нации, ее страстный темперамент, неугасимый оптимизм, умение не сгибаться под тяжестью лишений и всегда сохранять наивную, но чистую веру в обязательное, хотя, может быть, и не очень скорое торжество добра над злом.
Все это будет правильно, и в каждом из этих соображений безусловно содержится что-то немаловажное и существенное для ответа на поставленный вопрос. Но ведь, с другой стороны, мы можем вспомнить немало писателей, отличающихся многими из вышеуказанных достоинств, в совершенстве владеющих литературной техникой, подымающих на страницах своих произведений самые актуальные и важные проблемы современности, но не сопоставимых с Жоржи Амаду ни по своему авторитету, ни по тиражам, ни по бесспорности читательского признания.
Размышляя на эти темы, я подумал, что одно из возможных объяснений кроется в удивительной эмоциональности Жоржи Амаду, которой мы заражаемся, читая его книги. Именно об этой особенности его натуры и его творчества хотелось бы сказать несколько слов.
Свидетельства очевидцев, изыскания биографов, предания и анекдоты, всегда сопутствующие писателям на их творческой стезе, говорят о том, что каждый из них по-своему отмечает завершение работы над книгой. И что в подавляющем большинстве случаев это событие носит торжественный, праздничный характер. Рассказывают, например, что Александр Дюма имел обыкновение, закончив очередной роман, падать на постель, охваченный приступом счастливого смеха. Утверждают, что Габриэль д?Анунцио отмечал эти мгновения вакхическими празднествами с обязательным участием своих самых красивых и жизнерадостных подруг. Машаду де Ассиз, поставив слово „конец“ на последней странице книги, брал бумагу и начинал писать десятки писем своим друзьям, сообщая о радостном событии. А Хемингуэй, как утверждают некоторые из его биографов, телеграфировал или звонил из любой точки планеты в Мадрид хозяину своего любимого кабачка „Каса де лос торерос“ с просьбой угостить каждого из находившихся в тот момент посетителей двойной дозой коньяка „Фундадор“. Ничего подобного с Жоржи Амаду не происходит. В его доме завершение работы над очередным романом всегда овеяно меланхолией, если не грустью.
— Габриэла нас оставила, — сказал он однажды жене поздно ночью, когда за окном шумел ливень и грохотала гроза. Помолчал и добавил: — Надо же было свершиться этому несчастью в такую и без того ненастную ночь!
Его супруга Зелия вспоминает о еще более драматичном потрясении, вызванном завершением работы над „Доной Флор“:
— Это было как кончина близкого друга, даже члена семьи… Флор жила с нами два года. И мы словно жили с ней, жили ее жизнью. Жоржи день за днем рассказывал нам о ней. О ее радостях и секретах, горестях и заботах, о каждом ее шаге. Флор стала в доме совсем своим человеком, близким и родным. И вдруг, представляете себе, она уходит, оставляет нас! Но дело не только в этом. Меня больше всего удручает, что эта женщина — наша подруга, член семьи, родной человек — неожиданно превращается вдруг в нечто как бы „обобществленное“. Словно наша жизнь становится достоянием всех.
Купив за несколько крузейро книгу Жоржи, тысячи людей словно входят в наш дом, в наши мысли, в нашу жизнь, — продолжает свой рассказ Зелия. — Потому что в каждой его книге живем и мы тоже. Мы уже были „старыми моряками“ и крестьянами, мы были арабами, неграми и белыми, красивыми или безобразными, честными или жуликами, героями или предателями, словом, мы были разными людьми, ибо в каждой книге Жоржи всегда найдется что-то взятое от нас и угадывающееся в ее персонажах и героях…
Возможно, эти полушутливые признания жены Жоржи Амаду гораздо более серьезны, чем может показаться на первый взгляд. Не то ли самое хотел сказать другой великий писатель другой страны и эпохи своей знаменитой фразой: „Эмма — это я?“
— Когда Жоржи работал над „Габриэлой“, я очень просила его, — вспоминает Зелия, — чтобы он обвенчал Жерузу с Мундиньо Фалкао. И знаете, что он мне ответил? „Нет уж, спасибо. Я и так по горло увяз в неприятностях с неудачным браком Габриэлы и Насиба, а ты мне хочешь подбросить еще один?“
Сам писатель откровенно признает, что термин „сочиняет“ ни в коем случае не может быть приложим к его творческому процессу. Он не сочиняет книги, не конструирует образы, не разрабатывает характеры, не планирует сюжеты и не задумывается над кульминациями и развязками. Он живет в своих героях и вместе с ними. И в каждом из них оставляет частицу самого себя и своих близких, как мы это увидели только что в признании его жены. Поэтому-то расставание с каждой книгой выливается для него самого и для его семьи чуть ли не в трагедию. Мы, читатели, чувствуем эту искренность, эту взволнованность, она подкупает нас, мы заражаемся ею. Нам в той же мере интересно следить за переживаниями Насиба или Дамиана, Жукундины или Кинкаса Берро Дагуа, как самому Жоржи Амаду было интересно писать их, следить за ними и изумляться их выходкам. Не те ли самые чувства привык испытывать Жорж Сименон, признавший однажды, что „как только герой романа родился, он обретает плоть и — тут я готов биться об заклад — начинает жить самостоятельной жизнью“?
Однажды друзья и коллеги, беседовавшие с Жоржи Амаду в редакции литературно-художественного еженедельника „Паскин“, спросили, кто, по его мнению, обладает более „коварным“ характером: дона Флора или Габриэла?
— Я не знаю, — ответил он. — Но вспоминаю, что Флор меня очень удивляла. Я уже собирался заканчивать роман, когда она вдруг переметнулась к первому мужу, который неожиданно вернулся. И я подумал: „Что же случится теперь?“ Ведь мне всегда казалось, что она — женщина глубоко порядочная. Исходя из этого предположения о порядочности и честности Флор, я представил себе, как она будет раскаиваться и терзаться, и решил, что именно таким должен быть финал романа, и даже рассказал о нем дочери моего брата Жамеса. Ей понравилось, она сказала, что это будет очень поэтичный финал.
Словом, я написал сцену, когда Флор отдается первому мужу, а затем, на следующий день, приступил к лирической, как и задумал, финальной сцене. Но тут вдруг у меня ничего не получилось: вместо того чтобы умереть от стыда и раскаяния, дона Флор вдруг решила остаться сразу с обоими мужьями. Она — представляете себе! — предпочла иметь сразу двоих, и все тут…
Когда я рассказываю, — улыбнулся не без смущения Жоржи Амаду, — это похоже на шутку, но это чистейшая правда: я никогда не могу сделать из моего героя то, что хочу. Он ведет себя так, как считает нужным.
…После этих, согласитесь, интереснейших и подкупающе откровенных признаний, приоткрывающих душу писателя, позволяющих ощутить психологический и эмоциональный драматизм работы над книгой, нас уже не удивляет, когда в ответ на вопрос корреспондента португальского еженедельника „Темпу“, не чувствовал ли он когда-нибудь влюбленности в своих героев или героинь, Жоржи Амаду говорит:
— Я всегда люблю героев своих книг. Но каждый мой роман интересует меня, только пока я работаю над ним, пока создаю его и в моем воображении, моими руками, из моего жизненного опыта, из моей плоти и крови рождаются мои герои. В тот момент, когда я сдаю книгу издателю, она умирает для меня, перестает быть моей, и ее герои тоже перестают быть моими. С этого времени они начинают принадлежать читателю. Они даже перестают быть такими, какими я их создал. Потому что читатель обязательно прибавляет к ним что-то свое. Заметьте, что я скупо описываю физический облик персонажа. Отмечу каждого лишь двумя-тремя самыми характерными чертами и оставляю остальное фантазии читателя.
Корреспондент „Темпу“ поинтересовался, не собирается ли Жоржи Амаду написать что-нибудь о Португалии, раз уж он приехал в эту страну и провел в ней целый месяц.
— Совершенно точно могу сказать, что не собираюсь этого делать. Я — романист. А роман пишется только о том, что ты пережил, а не о том, что ты видел, наблюдал, изучал в кабинете или в ходе поездки по какой-то стране. Я считаю, что невозможно написать роман, который отражал бы что-то, не пережитое тобой. Я не могу писать о Португалии по той же причине, по какой не могу писать о бразильских штатах Сан-Паулу или Рио-Гранде-ду-Сул. Я пишу о Баие, ибо это — земля, на которой я живу, моя жизнь — это то, что я пережил.
Баия, добрая земля Баня… Этот северо-восток Бразилии, родина Жоржи Амаду, стала для него и для его творчества тем же, чем были Прованс для Доде или Сезанна, а Миссисипи для Фолкнера или Льюиса Армстронга. (Я сознательно прибегаю к таким сложным ассоциациям литературы с музыкой и живописью: мне кажется, что романы Жоржи Амаду по своей выразительности, по сочности и богатству языка находятся где-то на стыке литературы, изобразительного искусства и музыки.) И, видимо, невозможно понять секреты успеха и тайны профессионального мастерства Жоржи Амаду, не узнав, что это такое — Баия, о которой с такой силой и нежностью рассказывает миру этот взволнованный и добрый человек. По-моему, его так же невозможно отделить от героев его книг, как неотделимы от Форсайтов Голсуорси, от Пьера Безухова или Платона Каратаева — Лев Толстой. Как стареющий, но не желающий сдаваться Хемингуэй неотделим в нашей памяти от немногословного и упорного старика Сантьяго и в то же время от велеречивого и склонного к патетике полковника Кантуэлла.
В посвященном Жоржи Амаду специальном выпуске бразильского литературно-публицистического альманаха „Жорнал де летрас“ (июль 1967 года) американский критик и переводчик Уильям Гроссман цитировал одного из своих коллег и соотечественников: „Трудность в анализе творчества Амаду заключается в том, что он в такой же мере идеолог, в какой литератор. Он видит целые классы, а не отдельных людей“.
С мыслью, выраженной в первой половине этой цитаты, в какой-то мере можно согласиться: сам Жоржи Амаду неоднократно и настойчиво повторял, что все его романы пронизаны „социалистическим духом“ и содержат острую критику капитализма. Но никак нельзя квалифицировать иначе, как безграмотную, вторую часть тезиса американца. Он грубо ошибается, полагая, что писатель склонен только к глобальному и „оптовому“ — исключительно в масштабах класса! — анализу социальных проблем. Американец просто слеп, если не понимает, что „сеньор Жоржи“ обладает способностью с поразительной силой и мастерством увидеть „целый класс“ в одном человеке, воплотить народ — в индивидуальном характере и передать настроение эпохи — в веселом или грустном голосе своего героя. В голосе, который задевает струны нашей души и нашего сердца и заставляет звучать их в ответ».
* * *
…Вечером в гостинице, собирая вещи, чтобы завтра утром отправляться обратно в Рио, слушаем по радио выпуск новостей. Почти весь он посвящен побегу трех американцев-контрабандистов. Похоже, событие это и впрямь разрастается в скандал национального масштаба.
Оказывается, у столичных пожарников на гауптвахте сидели не трое, а четверо янки. Четвертый бежать отказался: срок его отсидки подходил к концу, рисковать не имело смысла. Теперь он вдохновенно «колется», рассказывая следователям и репортерам сенсационные подробности о своих похождениях и подвигах своих улизнувших друзей.
Диктор радиостанции «Баия» вибрирующим от благородного негодования голосом пересказывает откровения Ральфа: еще в 1964 году за две тысячи долларов он «купил» какого-то чиновника Национального департамента геологоразведочных работ, который познакомил его — американца! — с секретными материалами о месторождениях стратегических минералов, а затем снабдил документацией, разрешающей их разработку. Лабораторные пробы Диал и его друзья направляли в лабораторию этого же департамента, а все результаты исследований и найденные образцы минералов вывозились в США. Вывозились благодаря подкупу бразильских таможенных и пограничных служб.
— Я завидую тебе, — говорит Виталий. — Я чувствую, что здесь пахнет, как минимум, «подвалом» в моей газете. Эх, если бы мне можно было продлить бразильскую визу еще недельки на две!..
«В последний раз, — читает диктор радио „Баия“, — Ральф Диал и его сообщники прибыли в Бразилию на собственном самолете „Аэрокомандер“ с бортовым номером „аче-6208-икс“ и, получив в Сан-Пауло разрешение на полеты внутри страны, отправились в Анаполис, где обосновались на аэродроме, принадлежащем местной пресвитерианской миссии. Есть все основания полагать, что эта миссия тоже занимается незаконной разведкой и контрабандой стратегического сырья из Бразилии в Соединенные Штаты…»
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ГЛАВА ВОСЬМАЯ Алексей Федорович Горшков, двадцати пяти лет от роду, среднего роста, крепкого сложения, с благообразным спокойным лицом, обрамленным русой бородкой, с синими, задумчивыми глазами, не поражал воображение окружающих. Был ровен со всеми, терпелив, не
Глава восьмая
Глава восьмая Мы — дети страшных лет России Забыть не в силах ничего. А. Блок Месяца полтора тому назад подруга Нины Дашковой по Смольному институту, в прошлом Марина Сергеевна Драгомирова, а ныне Риночка Рабинович, гуляя по парку Царского Села, вышла на площадь перед
Глава восьмая
Глава восьмая Первый месяц по возвращении Нина пребывала на высотах собственного «я», она живо ощущала в себе свою большую, горячую любовь; вспоминая поездку и трудности, преодоленные ради любимого человека, она сознавала, что заслужила то уважение, которым ее окружили
Глава восьмая
Глава восьмая Олег отказался подписать обвинительный акт, несмотря на щедро применяемые «методы воздействия», и это усугубило тяжесть обвинения. После того, как приговор о расстреле был зачитан, его перевели в камеру смертников. Подать просьбу о помиловании он не
Глава восьмая
Глава восьмая Разумеется, мы всячески бились отучить наших жидков от «падежа», и труды эти составляют весьма характерную историю.Самый первый одобрительный прием в строю тогдашнего времени был хороший материальный окрик и два-три легких угощения шатоскуловоротом. Это
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ГЛАВА ВОСЬМАЯ Впервые— ОЗ, 1884, № 3, отд. II, стр. 113–126 (вып. в свет 16–18 марта). Под заглавием «Между делом» и за подписью «Dixi». В Изд. 1884 статья перепечатана с незначительной стилистической правкой и изъятием двух заключительных абзацев — «воззвания» о денежной помощи
Глава восьмая
Глава восьмая …Написав стихи для «Красной звезды», я передал их по телефону стенографистке в редакцию, и в середине дня мы выехали на двух машинах, «пикапе» и «эмочке», под Ельню, где действовала оперативная группа частей 24–й армии, которой командовал генерал–майор
Глава восьмая
Глава восьмая От Алма–Аты до Красноводска мне предстояло добираться поездом, через Ташкент — Ашхабад, а как дальше от Красноводска, пока оставалось неизвестным — то ли самолетом, то ли пароходом.Когда я приехал в Ташкент, встретивший меня на вокзале корреспондент
Любимый банкир и любимый строитель (В.Гусинский и В.Ресин)
Любимый банкир и любимый строитель (В.Гусинский и В.Ресин) В Москве многим известно, что любимым банком Лужкова долгое время был Мост-банк во главе с господином Гусинским, отвечавшим московскому мэру взаимной приязнью. Лужков как-то даже говорил, что на него давят,
ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Карлсхорст — одно из восточных предместий Берлина. Вскоре после окончания войны несколько кварталов в центре Карлсхорста были отделены от остальных улиц и домов высокой железной решеткой. Кое-где решетка переходила в забор из колючей проволоки. Вдоль
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ГЛАВА ВОСЬМАЯ Я спустился в вестибюль, раздумывая, не поужинать ли в ресторане. Я сильно проголодался, вероятно, из-за двух рюмок коньяка, выпитых у Хиды. До получки оставалось около тридцати рублей, и я мог позволить себе лапшу с подливой, стакан вэймэйсы и чашку кофе
Глава восьмая
Глава восьмая От Алма-Аты до Красноводска мне предстояло добираться поездом, через Ташкент – Ашхабад, а как дальше от Красноводска, пока оставалось неизвестным – то ли самолетом, то ли пароходом.Когда я приехал в Ташкент, встретивший меня на вокзале корреспондент
Глава 10 Любимый наркотик спортсменов
Глава 10 Любимый наркотик спортсменов В 4:30 теплым октябрьским утром я зашел в кафе Kona Brothers в Коне на Гавайях. Заплатив за пол-литровую чашку местного среднеобжаренного кофе, я услышал от бариста: «Сегодня мы готовы обеспечить кофеином всех желающих». Для Kona Brothers был самый
Амаду Диалло
Амаду Диалло Март 2000 года. Амаду Диалло, черный иммигрант из Гвинеи, был застрелен в Бронксе четырьмя нью-йоркскими полицейскими, выпустившими из табельного оружия не менее сорока одной пули, — и все четверо убийц оправданы по всем пунктам обвинения по приговору суда,