ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ Самые крупные планы
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Самые крупные планы
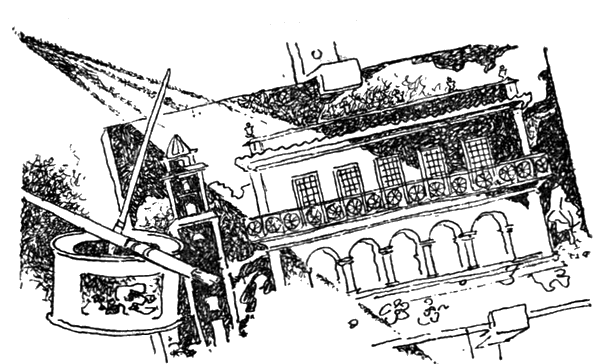
* * *
До сих пор речь в этой книге шла о сравнительно простой корреспондентской работе. О работе, которая выполняется в одиночку. Живет журналист в зарубежной стране, выезжает в командировки, собирает информацию, накапливает впечатления, ведет досье, пишет короткие заметки или пространные очерки. И все это он делает сам. «Творит свой подвиг одиноко», как сказал Александр Трифонович Твардовский. Творит без помощников, ассистентов, секретарей и переводчиков. Сам выбирает тему, сам подбирает материал, звонит по телефону, договаривается об интервью, записывает его на магнитофон, потом сам же переводит запись на родной язык, садится за стол и, этакий кустарь-одиночка, стуча по клавишам машинки, «готовит людям свой подарок», рождает в более или менее острых творческих муках очередной шедевр.
Но с 1973 года, когда начальство решило откомандировать меня в Гавану, начался новый, куда более сложный этап моей корреспондентской биографии: отныне предстояло работать не для радио, а для телевидения.
Первое и главное отличие телевидения от обычной прессы заключается в том, что телевидение должно не рассказывать о событии или человеке, как это делает газета, а показывать его. Поэтому в корреспондентских пунктах телевидения работает обычно не один корреспондент, а два: журналист и кинооператор. Журналист ищет темы и пишет текст будущего телесюжета, а оператор — снимает его.
В очерке об одной из корреспондентских командировок по Кубе, который вы сейчас прочитаете, рассказывается о ситуации, далеко не стандартной. Чтобы снять несколько сюжетов для «Международной панорамы», в поездку по центральным и южным провинциям Кубы мы отправились не вдвоем с оператором, как это бывает обычно, а целой бригадой, включая трех кубинских журналистов. О некоторых эпизодах этого путешествия сейчас и пойдет речь, но сначала еще одно замечание, поясняющее название этой главы.
Возьмите в руки кинокамеру или фотоаппарат. Посмотрите в видоискатель: камера бесстрастно фиксирует все, что находится перед объективом. И девочку, прыгающую через скакалку в двух шагах от вас, и почти неразличимый поселок на самом горизонте. Оператор скажет, что эта девочка находится «на крупном плане», а поселок — на «общем». Не нужно быть специалистом, чтобы понять нехитрую истину: хорошо изучить какое-то явление или событие, познакомиться с человеком, ощутить и понять его внутренний мир можно только тогда, когда мы снимаем его крупным планом.
Лас-Вильяс: последняя битва революции
О нашем приезде Мирабал был предупрежден телеграммой и тремя телефонными звонками из Гаваны. И все же я испытал угрызения совести, когда, толкнув дверь с табличкой «Делегат Кубинского института радиовещания в провинции Лас-Вильяс товарищ Модесто Мирабал Аренас», мы ввалились шумной гурьбой в его кабинет, и я увидел, как этот человек, с трудом оторвавшись от кипы бумаг на письменном столе, устало поднял голову и воззрился куда-то сквозь нас. Через несколько мгновений он встряхнул головой, сбросил с себя оцепенение и с кроткой улыбкой объяснил: «Масса работы… Сижу, понимаете ли, над отчетом для Гаваны, который нужно через два дня отослать. Да тут еще партконференция через неделю. Велели приготовить доклад об идеологической работе». У него был вид смертельно усталого человека, хотя рабочий день только-только начинался: когда мы въезжали в столицу провинции Лас-Вильяс город Санта-Клару, завершая 300-километровую автомобильную гонку из Гаваны, часы показывали начало девятого и солнце лишь слегка выглядывало из-за холмов Капиро.
Мы энергично пожимаем друг другу руки, после чего Мирабал лезет в ящик письменного стола и достает бумагу, на которой четким шрифтом — видимо, машинистка, садясь печатать этот документ, сменила ленту, — зафиксирован «План работы творческой группы Советского телевидения в провинции Лас-Вильяс».
— Не знаю, правильно ли я понял пожелания товарищей, — виновато улыбаясь, говорит Мирабал, — но мы постарались учесть все ваши просьбы.
Да, все правильно. Неделю назад мы обратились в Гаване к руководству Кубинского радио с просьбой помочь нам в организации этой поездки в Лас-Вильяс. Мы назвали несколько тем будущих репортажей, которые хотелось бы снять в провинции. И теперь я с удовольствием вижу, что все наши просьбы зафиксированы в этом педантично разработанном плане: «Битва за Санта-Клару — последняя битва кубинской революции», «Завод имени Норьега», «Морской порт Сьенфуэгоса», «Революция приходит в Топес-де-Кольянтес», «Вчера и сегодня Тринидада, интервью с художником Бенито Ортис». Чуть ниже — названия отелей, где нам надлежит ночевать. Еще ниже список группы: корреспондент Игорь Фесуненко, оператор Виталий Долина, осветитель Александр Бескаравайный, переводчик Евгений Бойцов. Сопровождают нас кубинцы Габриэль Аренал, Феликс Морехон и Диосдадо Рамирес.
На запланированную в этой командировке работу отведено всего три дня. За три дня мы должны снять пять или шесть сюжетов в четырех городах. Нельзя терять ни минуты, и, прихлебывая дымящийся кофе, без которого на Кубе, как и в Бразилии, просто невозможно ни начать, ни кончить какое бы то ни было дело, я тут же обращаюсь к Мирабалу с просьбой: для сюжета о битве за Санта-Клару нам обязательно нужно разыскать хотя бы одного ее участника, который расскажет советским телезрителям об этом последнем сражении кубинской революции.
Мирабал заметно мрачнеет и со вздохом глядит на черновик своего годового отчета.
— Вам это обязательно нужно?
— Конечно!
— Я, знаете ли, уже предвидел, что вы можете об этом попросить, — говорит он с виноватой улыбкой, — и пытался найти ветерана. Но это оказалось не так-то просто. Один из тех, кого я знаю, находится на сафре, другой уехал в командировку в Гавану, третий — отправился в отпуск в Варадеро.
— Но нам это действительно нужно! — настаиваю я, хотя мне очень неловко отрывать его от собственных дел и забот.
— Хорошо, мы постараемся что-нибудь сделать, — Мирабал улыбается, перекладывая листки своего доклада с одного края стола на другой.
Мы встаем. Протокольная часть визита закончена. Нужно немедленно отправить чемоданы в мотель «Лос Канеес», где Мирабал зарезервировал для нас места, перекусить и отправляться на съемку. Мирабал, грустно глядя в наши неумолимые глаза, обещает разыскать ветерана сегодня к вечеру или завтра к утру.
Когда плачут «самоубийцы»
— Отряды Че Гевары выступали на город оттуда, со стороны Капиро, — говорит Диосдадо, показывая на виднеющийся неподалеку невысокий холм, поросший редким лесом и кустарником.
На притихший, разомлевший от зноя город мы глядим с крыши отеля «Санта-Клара», на которую забрались, чтобы обеспечить Долине высокую точку для съемки панорамы города. Тихо стрекочет «арифлекс», переваривая первую кассету. В объективе отражаются белые стены отеля, на них чернеют царапины и шрамы пятнадцатилетней давности: следы пуль и осколков гранат. Камера наклоняется, снимая застывшее красно-белое море черепичных крыш, серые ленты улиц, большой сквер на площади у отеля.
— Здесь, внизу, в этом сквере, шел особенно ожесточенный бой.
В душной кабине старенького лифта мы спускаемся вниз, оказываемся в холле «Санта-Клары», выходим на улицу, пересекаем мостовую и останавливаемся в сквере, носящем имя «Парк Видал».
Небольшая площадь, круглая беседка в центре, несколько скамеек. Деревья, придавленные солнцем к земле, в изнеможении обронили серую паутину тени на плавящийся асфальт. С одной стороны сквера — белые стены «Санта-Клары», испещренные черными оспинами — отметками вонзавшихся пуль. С другой — окна невысокого серого особняка с выложенной кирпичами надписью на фронтоне: «Говерно провинсиал» — «Правительство провинции».
— Там, в здании правительства, стояли пулеметы Че, — рассказывает Диосдадо. — Они обстреляли «Санта-Клару», где тогда засели агенты батистовской полиции.
Виталий прищуривается, примериваясь к кадру, вертит головой слева направо, потом справа налево. Озабоченно почесывает затылок, затем припадает глазом к видоискателю и нажимает спусковую кнопку «арифлекса». Медленно поворачиваясь, он снимает панораму, повторявшую трассы пулеметных очередей. Тех самых, что навечно отметили белые стены отеля.
Мальчишки, резвящиеся в сквере, бросают свои мячи и самокаты. Вокруг Виталия вскипает дружная, галдящая толпа. Каждый хочет попасть в кадр, каждый лезет под объектив.
Кончив снимать панораму, Долина опускает камеру и задумчивым взглядом окидывает «Парк Видал». Его глаза озаряются вдохновением. Тем самым, которое предвещает рождение шедевра. Я могу предположить, что нечто подобное вспыхнуло в глазах Пушкина за пару секунд до того, как он взял в руки свое гусиное перо и вышил бисером строчки про дядю самых честных правил, который не в шутку занемог. И, наверное, именно так загорелся взор Микеланджело в тот миг, когда он увидел у каменотесов Сеттиньяно заветную, столь долго разыскиваемую мраморную глыбу для будущей мадонны с младенцем.
Мы уважительно помалкиваем. Габриэль даже затаил дыхание. А Долина, припав к видоискателю, строчит короткими точными очередями.
…Очередь, и увековечен для потомков дряхлый старичок, вздремнувший на скамейке с газетой в бессильно повисшей руке. Еще очередь: смуглая мамаша, совсем девочка, поправляет пеленку у младенца, шевелящего розовыми ножками в коляске. Очередь: три офицера разговаривают около беседки, жестикулируя и размахивая руками. Несколько воркующих парочек. Стройная мулатка с хозяйственной сумкой в руках. Негр, сосредоточенно раскуривающий толстенную сигару. Быстрыми точными движениями Долина наводит на резкость, поправляет диафрагму, меняет объективы. А я стою в отдалении и пытаюсь представить себе, где они были, что они делали, все эти люди — этот негр, и этот старик, и эта мулатка — в предновогодний декабрьский день пятьдесят восьмого года, когда здесь гремел тот бой? Когда революционеры из «Движения 26 июля» штурмовали крепостные стены казарм «31-го эскадрона». Когда из разместившегося в университетском городке штаба осаждавшей «Санта-Клару» колонны Че неслись связные с приказами команданте. Когда дымились окутанные пороховым дымом пологие склоны Капиро. Когда гремели пулеметные очереди у стен городской тюрьмы, у полицейских казарм, у крепости «Леонсио Видал». Когда вползал, громыхая на стрелках, бронепоезд, посланный сюда Батистой в тщетной надежде спасти Санта-Клару.
Потом мы садимся в машину и едем на место, где погиб знаменитый Вакерито — «Пастушок», как прозвали Роберто Родригеса, командира «Батальона самоубийц». Столь устрашающее имя этот отряд носил не случайно: он выполнял самые трудные задания Че, и о нем в Повстанческой армии ходили легенды.
Сам Че впоследствии в «Эпизодах революционной войны» вспоминал: «„Батальон самоубийц“ был образцом революционной морали. В него назначались лишь избранные из добровольцев. И, однако, каждый раз, когда кто-нибудь из них погибал — а это случалось в каждом бою — и на его место выбирался новый солдат — один из множества добровольцев, все остальные страдали буквально до слез. И было странно видеть эти слезы у опытных героев, страдавших от того, что их не удостоили чести занять место на переднем краю битвы и, возможно, гибели».
Здесь, в Санта-Кларе, Че поручил Вакерито взять штурмом здание полиции. Сказано — сделано! «Самоубийцы» обложили батистовцев, укрывшихся в серой полицейской казарме. Началась яростная перестрелка.
— С этой крыши и вел огонь Вакерито, — говорит Диосдадо, показывая нам маленький особнячок, метрах в ста от казарм. На нем тоже сохранились следы пуль. И кажется, что в воздухе все еще стоит запах пороха.
— Его помощник Леонардо Тамайо кричал Вакерито: «Пригнись, тебя же убьют!» Но Вакерито смеялся над врагами. И стрелял, стоя во весь рост, — тихо рассказывает Диосдадо. — Пуля попала ему в голову. Всего лишь тридцать минут билось после этого сердце Вакерито. Тридцать минут. Их хватило для того, чтобы привезти героя в госпиталь, где врач Орландо Фернандес Адан смог только одно: грустно покачать головой. Вакерито умер, не приходя в сознание. И Че, примчавшийся в госпиталь через десять минут, сказал: «Погиб не Вакерито. Погибла сотня моих лучших бойцов».
Диосдадо замолкает. И правильно делает. Хочется помолчать. Даже неугомонный Долина перестает суетиться со своим «арифлексом». Все мы — Феликс Морехон, Габриэль, Диосдадо, Виталий — глядим на темный барельеф мемориальной доски, укрепленной на стене, у которой погиб Вакерито.
Он был совсем мальчик, этот Роберто Родригес. Не по-кубински белокурый, с зелеными глазами и редкой бородкой, которую отпустил, подражая Фиделю и Че. Незадолго до гибели ему исполнилось 23 года, в горы Сьерра Маэстра он пришел месяца через три после высадки Фиделя, Рауля, Че и их соратников с «Гранмы». Сначала был посыльным, потом — солдатом. Вскоре стал капитаном. А вы знаете, что такое «капитан» в Повстанческой армии? Ведь сам Фидель был «команданте» — майором. И выше «команданте» воинских званий в Повстанческой армии не было.
Когда его хоронили, «самоубийцы» плакали, не стесняясь слез. И стреляли в воздух, салютуя своему командиру, который не дожил до победы революции всего лишь несколько часов.
Сага о бронепоезде
К обеду мы отсняли все, что наметили. И даже немножко больше. Для шестиминутного сюжета о битве за Санта-Клару «картинки», как говорят операторы, было у нас более чем достаточно. Не было лишь самого главного: интервью с участником битвы.
Закончив обед, решительно направляемся к машинам. «К Мирабалу?» — упавшим голосом спрашивает Габриэль, которому, видимо, хотелось бы без спешки выкурить послеобеденную сигару. Да, к Мирабалу! Без ветерана нам уезжать отсюда нельзя!
Мирабал встречает нас без энтузиазма: бедняга уже извелся за эти полдня, названивая во все концы города.
Увы, ветерана разыскать не удается. И доклад горит. А мы садимся в жесткие кресла и смотрим на него жалобными глазами.
— Солнце, солнце уходит, — вздыхает Долина, глядя в окно.
Мирабал снова берется за телефонную трубку.
Мы сидим полчаса, час. Секретарша в третий раз тащит поднос с «кофе», от которого уже першит в горле.
— На худой конец, — говорит Феликс Морехон, закуривая сигару, — у нас есть еще в запасе Мойзес.
Мойзес? Это не совсем то, что нам нужно. И Феликс это хорошо понимает. Мойзес, водитель одной из наших машин, — тоже ветеран революции, это верно. Но он сражался не в Санта-Кларе. Он воевал на севере Лас-Вильяс. А нам обязательно нужен человек, который брал Санта-Клару. И желательно, чтобы это был участник атаки на «трен блиндадо» — бронепоезд, который герои Че захватили в последний день пятьдесят восьмого года.
Четыре вагона этого бронепоезда мы уже сняли утром. Они как памятник поставлены на вечное хранение рядом с тем местом, где шел бой. Четыре вагона, к сожалению, подремонтированные, аккуратненькие, словно экспонаты только что открывшейся сельскохозяйственной выставки. Долина извелся, выискивая на них следы боя. Кое-где старательные реставраторы проглядели пулевые пробоины, и Виталий снял их крупным планом. Колеса одного из вагонов сошли с рельсов, и это, пожалуй, единственное, что помогло нам воссоздать атмосферу боя. Увязшие в щебенке колеса были сняты крупным планом со всех возможных точек, с наездами и отъездами. При умелом монтаже можно будет создать впечатление, будто эти вагоны попали в наш репортаж буквально через несколько мгновений после того, как поезд сошел с рельсов. Я качнул висящий шланг тормозной системы, и Виталий снял его покачивающимся, словно вагон замер здесь всего лишь секунду назад.
И вот теперь, имея в кассете все эти беспроигрышные кадры, мы сидим в кабинете Мирабала, тоскливо слушаем, как он говорит с кем-то по телефону, печально смотрим, как уходит солнце. И с грустью сознаем, что ветерана все нет и нет. А завтра утром нам надлежит отправиться в Сьенфуэгос.
Когда мы уже близки к отчаянию, Мирабал радостно кричит: «Поймал!!» Мы вскакиваем со стульев и хватаем сумки. Еще через минуту наши «альфы» летят, повизгивая шинами, по улочкам Санта-Клары. Скорчившийся на заднем сиденье Мирабал кричит мне в ухо, что мы едем к тому самому доктору, на руках которого погиб Вакерито! К участнику захвата бронепоезда. К личному другу Че, которого этот врач оперировал после тяжелого ранения.
Прекрасно! Более подходящего человека нам в Санта-Кларе, вероятно, не сыскать. Этот доктор не просто украсит сюжет, он станет его главным героем. Сцементирует в единое целое все отснятые сегодня кадры: мемориальные доски, пулевые пробоины, сошедшие с рельсов вагоны, воображаемые трассы пулеметных очередей над «Парком Видал», улицы и перекрестки, на которых шли бои.
Меня охватывает редко испытываемая радость победы, предвкушение удачи. Подымаясь по какой-то лестнице вслед за Мирабалом и Диосдадо, отключаюсь от всего окружающего и лихорадочно обдумываю вопросы, которые надо будет задать доктору, сочиняю фразу, которой представлю его телезрителям.
Прихожу в себя тогда, когда слышу спокойный голос:
— Вы знаете, мне совсем не хочется делать это.
То есть как это: «Не хочется»?! Я растерянно пожимаю руку человека, который стоит передо мной. Он похож на кого угодно, но только не на ветерана революции. Ни седины в висках, ни бороды, ни пышных усов. Нам приветливо улыбается молодой мужчина, стройный, с высоким открытым лбом, прямым носом, курчавыми волосами, умными глазами. «Удивительно фотогеничен», — мелькает в голове, и в этот момент осознаю смысл сказанной доктором фразы. С изумлением вперяюсь в этот сократовский лоб, в эти спокойные глаза и отказываюсь верить тому, что услышал.
— Да, мне не хочется давать это интервью, — повторяет он с подкупающей откровенностью. — Но я сделаю это. Так и быть.
— Но почему же не хочется? — изумляюсь я, когда мы уже идем по пыльному тротуару, торопясь к коричневым вагонам бронепоезда, освещенным слабеющим отблеском заката.
Доктор качает головой и ничего не говорит. Диосдадо шепотом объясняет, что Орландо не любит рассказывать о Че. Для него все это свято. Репортерская суета его раздражает, он не выносит банальных расспросов: «А что ты чувствовал в тот момент, когда…»
Ладно, пускай Орландо простит нас. А если не может простить, пускай хотя бы попытается понять. Если не хочет он вспоминать о святом для него Че, пускай не вспоминает. Пускай вообще не говорит о том, о чем не хочет говорить. Но о штурме бронепоезда он не может не рассказать нам. Точнее говоря, не нам, а миллионам советских телезрителей! Если он не сделает этого… Да это просто невозможно! Этот рассказ нужен для истории. Молодое поколение должно знать имена героев, услышать о жертвах, которые принесли отцы и старшие братья на алтарь революции.
Все это я излагаю ему сбивчиво и путано, а Орландо грустно улыбается и покорно идет следом за мной. Идет — я чувствую это, — повинуясь долгу, а отнюдь не по внутреннему убеждению. Идет потому, что его попросили помочь нам, а не потому, что он сам хочет этого. И меня это очень беспокоит, потому что я знаю, как тяжелы бывают такие «подневольные», вынужденные интервью. И я начинаю всерьез опасаться за судьбу репортажа.
А у четырех вагонов, на фоне которых мы намереваемся записать это интервью, уже кипит работа. Виталий насаживает камеру на треногу. При этом ежесекундно поглядывает на солнце, которое вот-вот опустится за кроны деревьев. Александр суетится у магнитофона. Разумеется, запутался кабель. Разумеется, штекер кабеля не лезет в гнездо. Разумеется, куда-то запропастилась кассета с магнитной пленкой. Виталий шепотом говорит Саше все, что он думает в связи с этими непорядками. Почему шепотом? Разве кубинцы понимают по-русски?
Мы с Орландо встаем на указанное нам место. Виталий кричит, чтобы я сделал шаг влево. Я делаю шаг вправо. Виталий просит передвинуть Орландо на полметра назад: на лице доктора лежит тень. Доктор не понимает просьбы и двигается вперед. Магнитная пленка нашлась, но Виталий забыл перезарядить кинокассету. Теперь остальные члены съемочной группы сообщают ему все, что мы думаем по этому поводу. На нашу суету с отеческими улыбками взирают Мирабал, Габриэль, Феликс и Диосдадо. Они купаются в лучах собственной славы. Они достали советским коллегам столь необходимого ветерана, наглядно продемонстрировав незыблемость и прочность профессиональных уз, объединяющих кубинских и советских журналистов в единую дружную семью.
Все готово? Да, все готово. Виталий в наушниках припадает к видоискателю. Внимание! Мотор! Я пытаюсь изобразить на лице подобающее ситуации торжественное выражение и, взяв микрофон, как древко победного стяга, задаю Орландо первый и единственный вопрос: «Итак, двадцать девятого декабря Че Гевара узнал о том, что на помощь осажденным в Санта-Кларе правительственным войскам из Гаваны идет бронепоезд… Каково было решение Че?»
— Этот бронепоезд, — отвечает доктор, — прибыл в Санта-Клару накануне Нового года. Сначала он поблуждал немного по железным дорогам провинции, пытаясь наладить связи между отдельными гарнизонами правительственных войск. Но после того, как командование поезда поняло, что в ближайшие часы Санта-Клара может оказаться в руках Повстанческой армии, оно приняло решение ворваться в город, чтобы спасти его гарнизон от разгрома. Надеяться на успех батистовцы могли только в том случае, если бронепоезд войдет в Санта-Клару по ветке Камахуани. Мы это предвидели, и здесь, вон видите, в ста метрах отсюда, на переезде, бульдозером взломали путь. Мы надеялись, что поезд сойдет с рельсов, только в этом случае у нас появился бы шанс атаковать и захватить его: ведь мы были вооружены только винтовками и пистолетами. А бронепоезд имел минометы, пулеметы, массу боеприпасов.
Все получилось, как мы и предвидели: машинист не успел затормозить, локомотив и несколько первых вагонов попали в ловушку. Они не просто сошли с рельсов, а рухнули в кювет. Вот здесь, на этом самом переезде, там, где сейчас проехал грузовик, оказался тендер локомотива. А оттуда, где — видите? — стоят те два школьных автобуса, мы начали атаку: сначала пустили в ход гранаты. Затем подтащили несколько зарядов динамита. Впрочем, мы не стали взрывать бронепоезд. Ведь нам было нужно захватить оружие! Повстанческая армия всегда обеспечивала себя боеприпасами, захваченными у противника.
…По мере того как развивается наш разговор, точнее сказать — монолог моего собеседника, ибо мое участие в нем сводится лишь к прилежно-утвердительному покачиванию головой, Орландо, как сказали бы спортсмены, «обретает форму». Вспоминая тот самый, главный день своей жизни, он постепенно оживляется, зажигается. Он не повышает голоса, но его речь словно загорается внутренним огнем. Он уже не вспоминает, а заново переживает то, о чем идет речь.
— Уже через полчаса мы добились первого успеха: захватили два вагона. В этот момент кто-то крикнул: «Они сдаются!» И мы увидели, что из одного вагона вышел офицер с белым флагом в руках. Переговоры? Пожалуйста, мы готовы. Несколько наших пошли навстречу этому офицеру.
Он сообщил нам, что командир бронепоезда предлагает начать мирные переговоры, но ставит условие: переговоры должны вестись в нейтральной пятидесятиметровой полосе. Хитрецы! Мы уже захватили два вагона, а они нам предлагают «отвести войска» на полсотни метров!
Тогда Че подошел к одной из платформ бронепоезда и на глазах у всех оставил товарищам свой пистолет. Потом пригласил меня и доктора Родригеса де ла Вега сопровождать его. Мы пошли вдоль замершего состава к одному из последних вагонов, где находилось их командование. Шли не торопясь и смотрели в лица батистовских солдат. Вокруг была тишина, и многие из солдат шепотом просили нас уговорить командира бронепоезда сдаться.
Мы подошли к блиндированному вагону, где находилось командование, и вошли туда. Начались переговоры о сдаче.
Че сразу же предложил им немедленную и безоговорочную капитуляцию. Командир бронепоезда сказал, что он должен подумать.
Мы поняли, что они тянут время, надеясь как-то выкарабкаться из этой истории. Ведь их было целых триста человек. С пулеметами, минометами и даже тридцатисемимиллиметровой пушкой! Стыдно сдаваться, когда ты так хорошо вооружен!
И все же Че проявил великодушие. Он сказал, что у него достаточно времени. Хотят обдумывать свое положение — пускай думают. Мы подождем. Мы можем ждать, — Че засмеялся, — хоть до будущего года. Ведь было уже шесть часов вечера 31 декабря.
И мы вышли из вагона и отправились. Куда? Ну куда еще может пойти кубинец, когда у него есть несколько минут свободного времени? Пить кофе, разумеется.
Не успели мы выкурить по сигарете, как нам сообщили, что командование бронепоезда предлагает продолжить переговоры.
Пожалуйста! Че снова сдал свое оружие и прошел через весь фронт вражеских солдат к командирскому вагону. Командир сказал, что он требует отпустить их в Гавану. В конце концов они — офицеры, служат правительству, и сдача в плен явилась бы оскорблением чести мундира. Че улыбнулся и ответил, что о чести мундира они должны были бы позаботиться до того, как попались так глупо в нашу ловушку.
Тогда кто-то из офицеров начал даже угрожать нам: «Если вы не отпустите нас подобру-поздорову, то мы покинем бронепоезд и атакуем вас. И в этом случае легко предугадать, кто победит: ведь нас в бронепоезде — триста солдат, а вас — только около ста».
Че спокойно ответил: «Я приму этот бой, даже если буду уверен, что проиграю его».
Короче говоря, деваться им было некуда: на уступки мы не шли, бронепоезд был окружен, локомотив валялся на боку, да и раненых у них было много. И они капитулировали.
Вот и все. Нужно только добавить, что Че сдержал свое слово: мы сохранили жизнь солдатам и офицерам, оказали медицинскую помощь раненым, их было около двадцати человек. И никто в ту минуту еще не знал, что, услышав о падении Санта-Клары, Батиста в ту же самую новогоднюю ночь в панике бежал с Кубы. Бежал, бросив личные вещи, документы, одним словом, все свое имущество. Но не забыв прихватить кругленькую сумму из государственной казны. Да, никто еще не знал, что революция в ту ночь победила окончательно.
Куда пошлет революция
Вечером мы с Орландо ужинаем в ресторане «Канеес». Это уже не интервью, а дружеская беседа. Неторопливо потягивая прохладный «хайбол», он охотно рассказывает о себе, вспоминает революцию, потом работу в Гаване, борьбу с малярией, в которой он участвовал столь же активно, как и в революции. Обо всем этом можно было бы писать отдельную книгу.
…Я слушаю его и вновь мысленно удивляюсь, как все-таки трудно сочетается понятие «ветеран революции» с обликом этого энергичного человека, скорее молодого, чем даже средних лет. Впрочем, чего же тут странного: с момента победы кубинской революции прошло всего пятнадцать лет… Я размышляю об этом и не знаю, что спустя еще десяток лет буду интервьюировать в Манагуа совсем юных двадцати — и тридцатилетних «ветеранов» никарагуанской революции.
Может быть, есть какая-то закономерность в том, что «революция» и «молодость» — понятия, почти тождественные?..
…А Орландо продолжает свою исповедь. Воевал он мало, хотя имел звание капитана: ему было поручено организовать вывоз раненых из Ориенте и других районов действий Повстанческой армии и доставку их в Гавану.
— Но зачем нужно было перевозить раненых через весь остров? Не проще ли было лечить их где-нибудь там, в Ориенте?
— Нет, не проще. В столице их легче было прятать по частным клиникам преданных революции врачей: Гавана — большой город. Человек там исчезает, растворяется, его можно искать десятилетиями и не найти. А в Ориенте всюду, по всем поселкам и селениям свирепствовала полиция Батисты. Кстати, весьма усердно помогал нам, хотя это покажется парадоксальным, посол Бразилии при правительстве Батисты — Васко Лейтао да Кунья. Вы, может быть, знаете его, раз работали в Бразилии? Но потом, после победы революции, этот Васко стал одним из самых заклятых врагов нашей родины…
Да, я знал этого бразильского дипломата. И рассказал Орландо, что впоследствии, через несколько лет, он был назначен послом в Москву, и я помню, как в 1963 году он подписывал в Кремле от имени своей страны Договор о прекращении ядерных испытаний на земле, в воздухе и в море. Потом он был послом в США, затем — руководил министерством иностранных дел. Однажды наш клуб иностранных корреспондентов, аккредитованных в Бразилии, пригласил его на завтрак. И этот немощный, полупарализованный старик с трясущимися руками долго распинался об угрозе безопасности западного полушария, проистекающей от «коммунистического режима» на Кубе, и о вытекающей отсюда необходимости для Бразилии крепить свою «оборонную мощь».
Спустя некоторое время он ушел в отставку, и в последний раз его имя попало на страницы печати, когда в газетах появились слухи о том, что, будучи послом в Вашингтоне, он без ведома и разрешения своего правительства передал американцам секретные данные о месторождениях стратегического сырья в Амазонии. Об этом стало известно в ходе расследования грандиозного скандала, о котором я впервые услышал в тот день, когда мы с Виталием Боровским летели в Баию на встречу с Жоржи Амаду и стюардесса дала нам газеты, сообщавшие о побеге контрабандистов из тюрьмы, точнее сказать — пожарной команды бразильской столицы.
…Упоминание об Амазонии вновь направило нашу беседу в русло медицины. Я поинтересовался у Орландо, каким образом умудрились кубинские врачи искоренить малярию в своей стране, где так много москитов. Вопрос казался мне весьма актуальным, ибо в мотеле «Канеес», куда нас определил на ночлег Мирабал, москитов этих было видимо-невидимо. И я уже предвкушал ужасы приближающейся ночи, когда нам придется укладываться на ночлег.
— Видишь ли, москиты сами по себе не заразны. Они являются только переносчиками инфекции от больного человека к здоровому. Поэтому мы решили не уничтожать москитов, а бороться с болезнью. Мы вылечили всех больных малярией, и москитам теперь нечего переносить. Они стали безвредны.
Где-то уже за кофе Орландо обмолвился о том, что он молодожен. Всего пять месяцев, как женился. Но жена пока в Гаване. Тоже врач. Скоро, вероятно, приедет сюда.
— Ждете с нетерпением? — улыбаюсь я.
— Ого, еще с каким!
Сам Орландо родом тоже из Гаваны. Всю сознательную жизнь прожил в Ведадо. Ну а сейчас осел пока здесь, в Санта-Кларе. С нескрываемым удовольствием старожила рассказывал он об этом городе, о переменах в Лас-Вильяс за полтора десятилетия революции. О новых дорогах, связавших Санта-Клару с самыми глухими уголками провинции. Об отмечающем свое десятилетие механическом заводе имени Норьега, который мы должны снимать завтра. О новой фабрике электронных товаров, о школах, построенных в селе, о плантациях цитрусовых культур, раскинувшихся на бывших пустошах. Орландо говорил об этом с таким увлечением, как будто он сам, своими руками прокладывал эти дороги, воздвигал плотины, возводил заводские корпуса.
Уже далеко за полночь мы выкурили по последней сигаре.
— Наверное, тянет обратно в Гавану? — спросил я.
— Немножко тянет, — улыбнулся он.
— Скажите честно: вам не скучно здесь?
— Скучно? Почему? У нас, врачей, работа везде одна и та же: больные. И болезни всюду одни и те же. Что тут, в Лас-Вильяс, что там, в Гаване. Разницы никакой. Вот и работаю здесь. Пока. А потом? Потом, куда пошлет революция…
Мельба — переводчица или певица!
Бронепоезд, героические бои на подступах Санта-Клары — это, конечно, интересно, ибо это героика революции, но разве можно вернуться в Гавану без материала, отражающего героику труда? И поэтому во второй половине дня Мирабал организует нам съемку репортажа на литейно-механическом заводе имени Агилар Норьега в Санта-Кларе. Это как раз то, что нужно: передовое предприятие, неоднократно побеждавшее в социалистическом соревновании, боевой пролетариат, сотрудничество с советскими братьями по классу. Наскоро пообедав, мчимся на завод, начиная изнуряющую погоню за уходящим солнцем и временем.
До окончания рабочего дня нам необходимо снять хотя бы два-три синхронных интервью и несколько, как мы говорим, «планов» в цехах, которые уже начинают пустеть, ибо смена заканчивается. До наступления темноты нужно успеть снять и хотя бы один общий план фабрики. Поэтому слово «галоп» лишь в малой степени характеризует обстановку, сложившуюся в тот бурный день в нашей маленькой съемочной группе.
Первым делом встречаемся в красном уголке с руководителем заводского профсоюза и с одним из советских специалистов. Кубинец вдохновенно и стремительно рассказывает о братских связях завода имени Норьега с советскими фабриками аналогичного профиля, о социалистическом соревновании с заводом имени Ухтомского в городе Люберцы, который выпускает комбайны для уборки сахарного тростника на плантациях Кубы, выражает уверенность в дальнейшем упрочении этих братских связей. Затем мы приглашаем к микрофону советского инженера, который, увы, нервничает и, видимо, не имея навыка излагать свои мысли без спасительной шпаргалки, умудряется в четырех фразах пять раз сказать слово «работа». Он говорит, что за время работы группы советских специалистов на предприятии была проделана большая работа по организации капитального ремонта оборудования и оказанию помощи кубинским товарищам, в их работе по подготовке технической документации в связи с переходом завода на работу по изготовлению машин для работы в сахарной промышленности. Я тяжко вздыхаю, представив себе, как трудно будет нашим монтажницам убрать хотя бы половину «работ».
После этого устанавливаем аппаратуру у входа в заводоуправление и снимаем «синхрон» с главным инженером завода Луисом Фонсека, который рассказывает о том, что завод был открыт Эрнесто Че Гевара в 1964 году и с тех пор выпускает запчасти для сахарной промышленности. Луис говорит коротко, ясно, толково и заканчивает интервью выражением благодарности советским специалистам за братскую помощь.
Теперь мы почти бегом устремляемся в цех, где нас ждут специально задержанные после окончания смены несколько бригад. По дороге, используя последние лучи солнца, Долина умудряется снять круговую панораму заводских цехов, грузовики с готовой продукцией, утопающие в зелени аллеи между заводскими корпусами и рабочими, идущими после смены к проходной. А Александр вместе с Женей, Габриэлем, Феликсом и Диосдадо устанавливают тем временем лампы в цеху (впрочем, на профессиональном языке они называются не «лампами», а «осветительными приборами»), готовясь к съемке интервью с инженером, который учился в Минске и смог даже вспомнить несколько фраз по-русски. Со светом дела обстоят неважно: наши лампы слишком слабы, чтобы хорошо высветить громадные станки, создать хотя бы небольшую иллюзию перспективы, подчеркнуть размеры цеха. Пока ребята возятся с аппаратурой, я репетирую с инженером, предупреждаю его, какие задам вопросы.
Далее следует обычное: «мотор», «микрофон». Инженер с благодарностью вспоминает годы, проведенные в Минске, благодарит своих минских преподавателей и говорит о том, как помогают ему в работе знания, полученные в Советском Союзе.
Итак, у нас есть уже четыре интервью, но они никак не склеиваются в репортаж: все наши интервьюируемые говорят хорошо и правильно, но об одном и том же. И это моя вина. Нужно было лучше готовить их к съемке, задавать им вопросы так, чтобы ответы на них не повторялись, не дублировали друг друга. Но попробуй сообрази все это в лихорадочной спешке, когда солнце уходит, а в голове жужжит мысль, что десятки рабочих, уставших и голодных, остались после смены у своих станков только ради нас.
Нужно срочно искать какой-то ход, придумать что-нибудь, иначе репортаж погибнет. Это понимаю не только я. Долина и другие ребята вопросительно смотрят на меня. У меня опускаются руки, я ничего не могу придумать и готов провалиться сквозь землю.
И вдруг — как часто нас выручает это спасительное «и вдруг»! — в конструкторском бюро завода нас знакомят с обаятельной мулаткой Мельбой — переводчицей, работающей с русскими инженерами и занимающейся в свободное от работы время пением. Песня — это как раз то, что нам нужно, чтобы спасти сюжет. Она снимет у телезрителя напряжение и ощущение скуки, которое может возникнуть после серии однотипных в общем-то интервью.
Мы разыгрываем такую сцену: Мельба пишет что-то на машинке под диктовку одного из наших инженеров, затем в кадре появляюсь я. Завязывается беседа, в ходе которой Мельба рассказывает, что, помимо работы, она увлекается самодеятельностью — поет русские и кубинские песни.
Тут я, как это предписано старыми добрыми законами жанра, изображаю (или, говоря самокритично, пытаюсь изобразить) на своем лице радостное изумление. Как если бы узнал об этом именно сейчас вместе с телезрителями. Да простят мне они этот убогий штамп! Уверяю Мельбу, что мне очень хочется послушать, как она поет. Девушка улыбается и наклоняет голову в знак согласия. Положа руку на сердце должен признать: инсценировка получается у нее гораздо естественнее, чем у меня. Может быть, потому, что она волнуется? Или потому, что принимает эту игру всерьез?
Короче говоря, мы заканчиваем съемки на заводе мягкой и приветливой улыбкой Мельбы. Она послужит отличным лирическим мостиком к заключительному куску репортажа — к песням Мельбы. Поскольку в заводском цехе рояля нет, пение Мельбы решаем снять вечером в маленьком «кабаре» нашего мотеля.
«Кабаре» это представляет собой не слишком просторную хижину с крохотной эстрадой. Администрация «Канеес» по просьбе Габриэля предоставляет ее на пару вечерних часов в наше распоряжение. В дверях толпятся любопытные, наблюдая за тем, как, задыхаясь от жары, мы устанавливаем свет, ругаемся, опрокидываем пюпитры на сцене и не знаем, куда подвесить или как установить микрофон: стойку для него мы забыли в Гаване, а подвесить к потолку его очень трудно, так как потолок хижины высок, лестницы у нас нет, да если бы и была, разве захочется лезть на нее после такого суматошного дня? Феликс, Габриэль и Диосдадо сбиваются с ног, помогая нам, и я благодарю судьбу за то, что она послала нам таких энергичных и заботливых помощников.
Каждый, кто хотя бы раз в жизни имел дело со звукозаписью, хорошо знает, как трудно записать на один микрофон и певицу и рояль так, чтобы они не заглушали друг друга. Этот старый, рассохшийся инструмент долго и безуспешно пытается настроить пианистка, принарядившаяся по случаю киносъемки, но, увы, так и не попавшая в кадр. В зале скрипят стулья, летают миллиарды москитов. Мельба начинает петь. Я в восторге: голос у нее просто чудесный: сочный, сильный, красивого тембра. Слух у девушки — безукоризненный. Но она волнуется и ошибается. Приходится делать несколько дублей. Когда же она наконец успокоилась и, собравшись с силами, запела по-настоящему хорошо, кто-то из толпящихся вокруг кубинцев оглушительно чихает… Короче говоря, мы сняли этот злополучный кусок лишь после множества дублей, когда пленка в кассете кончилась, наши силы тоже были на исходе, когда Мельба потеряла голос, а Долина — терпение.
Но все хорошо, что хорошо кончается. Добираемся до ресторана уже совсем обессиленные. Отдышавшись, выпив ледяной минеральной воды, приходим в себя. Поставив на стол крошечный транзистор, Долина старательно вылавливает из него мексиканские и американские джазы, Габриэль с Феликсом затевают жаркий спор о преимуществе светлого пива перед черным. А я беседую с Мельбой. Она оказалась на редкость обаятельной собеседницей, остроумной и веселой. С изумлением узнаю, что русскому языку учил ее один из моих товарищей, Анатолий Трусов, который когда-то преподавал в школе имени Максима Горького в Гаване, а сейчас работает в Москве на радио. Мы с удовольствием констатируем далеко не оригинальную, но всегда удивляющую мысль о том, что этот бескрайний и необъятный мир чертовски все-таки тесен!
Спрашиваю, не пыталась ли она стать профессиональной артисткой.
— Нет, не пыталась и не хочу.
— Почему?
— Мне нравится моя работа, и я не хочу ничего менять.
— А ведь из тебя, вероятно, получилась бы хорошая певица!
— Возможно. Меня однажды услышала Елена Бурке. И сразу же пригласила в Гавану. Пообещала устроить в какое-нибудь музыкальное ревю.
— И ты отказалась?
— Да. Мне больше нравится здесь, в Санта-Кларе.
Она молчит немного и, видимо, поняв, что этот аргумент кажется мне не слишком убедительным, говорит:
— Ну а кроме того, у меня ведь семья. Двое детей. Муж. Верчусь с утра до вечера. Тут уж не запоешь.
— А где работает муж?
— Здесь же, на нашем заводе. Техником. А по вечерам учится. Хочет получить диплом инженера. Так что, видно, опоздала я стать певицей.
Деликатно отставив в сторону мизинчик, она помешивает кофе крохотной ложечкой. Ее смуглые пальцы и значительно более светлые ладошки покрыты заусеницами и мозолями: безошибочные следы стирки белья, мытья посуды и прочих извечных женских трудов и хлопот.
На прощание она передает привет Анатолию Трусову, и мы выражаем традиционную в таких случаях, но редко сбывающуюся надежду свидеться когда-нибудь еще раз.
* * *
После ужина перед сном читаю старый номер газеты «Гранма», забытый кем-то из прежних постояльцев в «кабанье» — хижине, которую я сейчас занимаю. Со ссылкой на бразильский журнал «Фатос и фотос» «Гранма» сообщает, что в американском городе Индианаполисе некий Чарльз Джонс застрелил в упор Стэнли Амоса Селига, только что вернувшегося из Бразилии агента по продаже земельных участков. В полиции Чарльз Джонс объяснил, что он был обманут рекламными объявлениями, которые Селиг публиковал в США, расписывая плодородные амазонские земли, способные приносить сказочные урожаи и к тому же богатые полезными ископаемыми. Чарльз Джонс купил у Селига несколько десятков гектаров в штате Гояс, убедился, что это безжизненная каменистая земля, на которой не растут даже кактусы, и свел с мошенником счеты традиционным для предприимчивых американцев способом.
Впрочем, пишет далее «Гранма», Селиг был лишь мелкой рыбешкой в стае хищников, которые накинулись сейчас на бразильскую Амазонию. Самый матерый из них — знаменитый миллиардер Дэниэл Кейт Людвиг, которого журнал «Форбс мэгэзин» считает самым богатым человеком на земле, оценивая его состояние в пять миллиардов долларов. Людвиг, оказывается, купил по левому берегу Амазонки громадную территорию, превышающую по площади иные государства. И намерен всерьез заняться там переработкой древесины. «Жари» — так называется грандиозное по объему капиталовложений предприятие, заложенное американцем близ поселка Алмейрим.
О, Алмейрим! Я же был там в семидесятом году! Совсем вроде бы недавно. Я хорошо помню этот патриархальный, тихий, зажатый между сельвой и рекой поселок. Уже тогда по Бразилии ползли слухи о том, что пронырливые агенты какой-то крупной американской фирмы шарят по амазонской сельве в поисках «наиболее удачного вложения капитала», так это называется на языке деловых людей. Имя Людвига тогда не всплывало, а жители Алмейрима в ответ на мои расспросы скептически покачивали головами: неужели найдется сумасшедший, который согласится вложить свои деньги в этот «зеленый ад», где не то что богатым стать, а просто свести концы с концами невозможно.
Итак, Даниэл Кэйт Людвиг, проект «Жари», Амазония. Жалко, что я уже не в Бразилии. Очень интересно было бы проследить судьбу этого предприятия, ради успеха которого Людвиг, как сообщает «Гранма», собирается даже закупить в Японии и доставить на Амазонку — пока не совсем ясно, каким способом, — гигантскую фабрику по переработке древесины в целлюлозу.
Снимать в Эскамбрае
Из Санта-Клары в Эскамбрай мы выезжаем рано утром. Залитое розовым, но уже жарким светом восходящего солнца шоссе ведет нас сначала по равнине, но вскоре рельеф начинает меняться. Дорога взбирается на пологие отроги холмов Агабама, потом спускается в долину речки Сагуа-ла-Гранде.
Слева и справа уплывают назад ослепительно зеленые табачные плантации. За поселком Маникарагуа шоссе устремляется вверх, подымаясь по северным склонам Эскамбрая — горного района, который до революции был одним из самых глухих и заброшенных уголков Кубы. Поэтому именно здесь в начале 60-х годов контрреволюция попыталась свить свое гнездо и создать плацдарм для готовившегося наступления на молодую республику.
Дорога становится круче, серпантин асфальта извилистее. Водитель Мойзес переходит на третью передачу, затем на вторую. За каждым поворотом — все более глубокие долины и глухие, заросшие лесами ущелья. Да, здесь можно было спокойно собирать силы, накапливать оружие, закладывать военные лагеря, даже проводить учения и стрельбы, не опасаясь, что кто-нибудь услышит или узнает об этом.
Ни шоссе, по которому взбираются наши машины, ни иных мало-мальски проезжих дорог не было проложено еще тогда на этих горных склонах. Поэтому-то и надеялись гусанос — «червяки» — так кубинцы прозвали контрреволюционеров, — что здесь до них не доберутся ни народная милиция, ни армия республики.
— Люди жили здесь в полном отрыве от цивилизации, — рассказывает Диосдадо. — Десятилетиями не спускались с гор. Не представляли, что существует электричество, радио, автомобили. Если кто-нибудь заболевал, неудачника сажали на мула и тащили к «ближайшему» врачу по глухим горным тропам. Путешествие обычно продолжалось несколько дней, и чаще всего бывало так, что больной умирал в пути. Его хоронили там, где настигала смерть. Никто не знает, сколько полусгнивших крестов стоит в этих ущельях, сколько безымянных могил заросло папоротником и травой.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ ПРЕДРАССВЕТНЫЕ УЛИЦЫ
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ ПРЕДРАССВЕТНЫЕ УЛИЦЫ «Хангерфорд Пэлес оф Вэрайетиз» Гатти был одним из самых вульгарных мюзик-холлов Лондона. В 1888 году Сикерт был завсегдатаем этого заведения и приходил сюда по нескольку раз в неделю.Встроенный в 250-футовую арку под железной дорогой
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ Алексей позвонил Директору ФСБ Лобастову и голосом, в котором не было просьбы или заискивания, а уверенная властная воля, произнес:— Мне нужно побывать на Урале. Посетить под Нижним Тагилом колонию строгого режима. Посещение входит в «монархический
Глава семнадцатая
Глава семнадцатая Олег опять начал ходить на службу. Работа и дорога из порта и в порт с бесконечными ожиданиями трамвая занимали так много времени, что домой он возвращался не раньше семи часов вечера. Стараясь заглушить безотрадные мысли, порывшись в библиотеке Надежды
Глава семнадцатая
Глава семнадцатая В последних числах июня в Оттовской клинике санитарка, бегавшая в часы передач с записочками от молодых матерей к мужьям, в числе других принесла такое письмо: «8 часов утра. Олег, милый, у тебя сын! Ты рад? Очень ты беспокоился? Меня здесь уверяют, что все
Глава семнадцатая
Глава семнадцатая Горе этой собаки по силе равнялось человеческому. Стоя уже несколько поодаль от Аси, она кроткими темными глазами и глубокой обидой и скорбью смотрела исподлобья на свою хозяйку, поджав хвост.На Асе она сконцентрировала всю полноту привязанности; в
Глава семнадцатая
Глава семнадцатая …17 октября, когда стало известно, что погода улучшилась и один из мотоботов сегодня в три часа дня отправится на Рыбачий полуостров, уходивший в город Мишка Бернштейн вернулся красный и взволнованный. Оказывается, сегодня в Москву летели двое
Глава семнадцатая
Глава семнадцатая Добравшись до Каменец–Подольска, я поехал оттуда на север, к Тарнополю. Тарнополь интересовал меня и других корреспондентов и потому, что это был сравнительно крупный город, один из областных центров Западной Украины, и о взятии его необходимо было
Глава семнадцатая Подруга Селина
Глава семнадцатая Подруга Селина Двадцать седьмого мая 2004 года исполнилось сто десять лет со дня рождения Луи-Фердинанда Селина. Честно говоря, я всегда была не в ладу с юбилеями так называемых «великих людей», но совпадение дня рождения Селина с днем основания
Глава семнадцатая Разведывательная служба и наши свободы
Глава семнадцатая Разведывательная служба и наши свободы Время от времени выдвигаются обвинения в том, что американская разведка или служба безопасности могут стать угрозой нашим свободам, что в секретности, окутывающей в силу необходимости разведывательные операции,
Глава семнадцатая Миссия «Алсос» в Германии
Глава семнадцатая Миссия «Алсос» в Германии Свои действия в Германии группа «Алсос» начала 24 февраля 1945 г. под Аахеном. В начальный период наступления союзников в Германии ее работа была связана в основном е объектами, не представлявшими интереса для Манхэттенского
Глава семнадцатая
Глава семнадцатая Добравшись до Каменец-Подольска, я поехал оттуда на север, к Тарнополю. Тарнополь интересовал меня и других корреспондентов и потому, что это был сравнительно крупный город, один из областных центров Западной Украины, и о взятии его необходимо было
Глава семнадцатая Как это могло случиться?
Глава семнадцатая Как это могло случиться? 1. 359 роковых дней Без учета фактора информационной войны большевистский переворот – какая-то опечатка истории, событие не только не предопределенное, но и просто неправдоподобное. Чтобы слабенькая партия с ничтожным влиянием
Глава семнадцатая. Журналистское расследование
Глава семнадцатая. Журналистское расследование Аня передала мне список присяжных заседателей, отобранных для процесса по делу Летучего. Листок бумаги формата АЗ с графами: фамилия, имя, отчество, возраст, профессия.В списке всего 31 человек. Стороны отобрали четырнадцать
Глава семнадцатая
Глава семнадцатая Накануне того дня, когда Фрунзе созвал совещание старших работников своего штаба, — то самое совещание, на котором крепко поспорили Азанчеев и Карбышев, — вопрос об объединении всех четырех армии Восточного фронта, действовавших южнее Камы (Пятая,
Глава 4. Планы, планы, планы...
Глава 4. Планы, планы, планы... Как и любое другое мероприятие (будь то вечеринка, мальчишник, девичник, свадьба, рыбалка), коллективное мероприятие с врачами требует пристальной внимательной подготовки и тщательного планирования. При организации самого коллективного