Глава 24 Нечеловеческое сияние
Глава 24
Нечеловеческое сияние
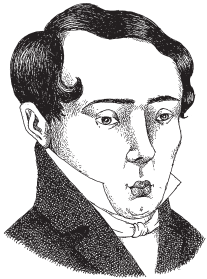
Иногда я с некоторой грустью думаю о судьбе своей книги, которую я так мучительно и долго пишу. Где, на какой полке в магазине она будет лежать? Рядом с романами ее не положишь – какой это роман! А сейчас романы – это самый ходовой жанр, но, увы… И среди литературоведческих книг я ее себе не представляю: студентам ее вряд ли посоветуют, да и литературоведы могут запротестовать. Что еще тут такое к ним подложили, к их фундаментальным исследованиям в области гуманитарных знаний?! В общем, с этой своей книгой я рискую сесть между двух стульев. А в результате магазины ее откажутся брать, во всяком случае, большие – в маленьких все книги сваливают в одну кучу, так что туда она, возможно, и попадет… Но кто эти маленькие магазины посещает? Точнее даже, не кто, а сколько: сколько покупателей там бывает за день? Считаные единицы! Как ни зайдешь в такой магазинчик, там, как правило, ни души. Пусто! Только парочка продавщиц уныло трутся около своих прилавков, изнывая от тоски. А в Доме книги на Невском, например, всегда целые толпы покупателей. Такое впечатление, что все, кто приезжает в Петербург на Московский вокзал, сразу же кидаются в этот магазин, чтобы удовлетворить свои духовные потребности, и сметают буквально все. Однако в крупных магазинах, как я уже сказала, все разложено строго по полочкам… В общем, «Моя история русской литературы» имеет все шансы провалиться… Но не будем о грустном!
Я, по крайней мере, пишу не стихи, а прозу, и то хорошо! Хотя бы на это у меня ума хватило! Сейчас, по-моему, если человек увидит на странице слова, расположенные в столбик, то он непременно должен от такой книги отскочить в сторону, как от чумы. Что бы там ни говорили, но поэзия – это совсем мертвый жанр, и не просто мертвый, а основательно разложившийся… У литературоведов, возможно, уже и выработался определенный иммунитет на мертвечину, как у патологоанатомов, а у обычного человека на трупный запах реакция самая тривиальная и естественная – отвращение. Порой из вежливости и хочется сдержать свои чувства, но сделать это очень сложно: так и подмывает пойти блевать или же хотя бы просто выйти на свежий воздух… Это чувство, по-моему, очень хорошо схвачено во многих современных триллерах, которые мне довелось видеть. Главным образом, в сценах, когда на место преступления прибывает какой-нибудь начинающий молодой полицейский. Как правило, этот полицейский, полный жизненных сил, бодро посвистывая, входит в комнату, где уже работают криминалисты, а на смятой постели лежит расчлененный труп. Тут с ним и приключается приступ тошноты, и он поспешно убегает в ванную или же туалет. По возвращении же он обычно натыкается на насмешливый взгляд какой-нибудь искушенной дамы-судмедэксперта, своей тайной пассии, и не знает, куда деться от стыда… Вообще-то, в триллерах часто показывают очень много всякой чуши – обычно этой чуши там ничуть не меньше, чем в русской классической литературе, например, а может быть, даже и больше, – но некоторые жизненные моменты там все-таки схвачены довольно верно.
Однако это вовсе не значит, что вся литература теперь окончательно умерла, нет – просто умерли ее отдельные жанры, вроде поэзии… Возьмите, к примеру, дерево: отдельные ветви на нем засыхают, а само дерево или ствол еще продолжает расти и развиваться. Нечто подобное, на мой взгляд, происходит сейчас и с литературой… Хотя, наверное, не стоит прибегать к столь сильным образам и аналогиям – можно ведь просто говорить о моральном и физическом старении. Вот театр, например, просто физически устарел – не выдержал конкуренции с кино, и все! Больше театр никого не интересует! В данном случае даже можно было бы сказать: «Театр умер!» – пожалуй, это не было бы большим преувеличением. То, что актерским труппам еще удается арендовать огромные залы и особняки, которые давно могли бы быть отданы под банки, например, – это, по-моему, один из величайших парадоксов нашего времени. И самое смешное, что за этим парадоксом, в сущности, не скрывается ничего особенного, никаких особенно важных и существенных причин. Просто в недавнем прошлом существовало слишком много театральных вузов, и в результате произошло некоторое перепроизводство кадров. В свое время, работая во всевозможных газетах, я, например, заметила, что почти везде отдел культуры возглавлял либо театровед, либо на худой конец бывший актер, которые, естественно, старались как можно больше уделять внимания тому, чему их учили в институте, то есть они сами и их подчиненные писали о театре больше всего, отчего у читателей складывалось впечатление, что театр – это что-то очень важное и интересное. Раз в газетах об этом так много пишут, то поневоле подумаешь, что это очень важно… И вот таким образом они и поддерживают этот уже почти угасший и едва теплящийся огонь, без какого-то особого умысла со своей стороны – просто это их специальность. Это же понятно! Однако пройдет совсем немного времени, все эти бывшие актеры и театроведы уйдут на пенсию, и все встанет на свои места. Театр окончательно исчезнет! Лично я в этом нисколько не сомневаюсь.
Этот пример с театром лишний раз показывает, что существование некоторых явлений в мире можно объяснить достаточно просто, гораздо проще, чем это может показаться на первый взгляд… И у того, что сегодня так много людей продолжают писать стихи, тоже, наверняка, имеется какое-то очень простое объяснение, какая-то причина, на которую я почему-то в своей жизни пока просто не натолкнулась, поэтому она от меня и ускользает… При социализме, например, члены Союза писателей, в том числе и поэты, получали отдельные квартиры и вообще наделялись огромными привилегиями. Тут все понятно! А при капитализме, наоборот, очень большая конкуренция на рынке труда, и как следствие безработица. Так что власти просто не могут не поощрять увлечение широких масс рифмованием слов, составлением их во всевозможные столбики и лесенки. Очень важно, чтобы каждый человек чувствовал себя при деле, иначе он может стать социально опасен. И никаких особых затрат со стороны государства это занятие не требует: бумагу и карандаш каждый может себе приобрести сам, даже совсем нищий безработный… Конечно, в самом этом занятии тоже есть что-то не совсем нормальное, но лучше уж поддерживать ненормальность в людях на таком сравнительно безопасном уровне, чем доводить до крайностей и пускать все на самотек. Потому что если человек окончательно свихнется, то его, в конце концов, тоже, конечно, можно отправить в какую-нибудь лечебно-трудовую мастерскую, где он будет клеить конверты, например, а конверт – безусловно, вещь более полезная, чем стихотворение… Тем не менее каждого свихнувшегося для начала надо хоть немного успокоить, привести в чувство, то есть потратиться на врачей, лекарства и т. п. В общем, тут все надо еще очень тщательно посчитать, взвесить все «за» и «против», так сказать… Но, скорее всего, именно здесь и кроется главная причина того, что такое дохлое, в общем-то, занятие, как поэзия, продолжает пользоваться определенной популярностью в массах.
Правда, многие поэты теперь изловчились располагать слова своих стихов не в столбик, как раньше, а размазывать их по странице, то есть так, что их на первый, поверхностный, взгляд от прозы и не отличишь. Однако в крупных магазинах, как я уже сказала, все книги разложены по полочкам, в строгом соответствии с жанрами, а желающих копаться в общих кучах в магазинах поменьше очень-очень мало. В общем, на каждое действие в этом мире всегда найдется противодействие. Увы! И потом, я представляю, если бы вдруг какой-нибудь покупатель случайно купил себе сборник стихов, приняв его по ошибке, например, за детектив! Какое бы у него стало лицо, когда он дома открыл бы эту книгу и повнимательней вчитался: «Небо. Вечность. Я иду по дороге и вижу звезды и т. д., и т. п.». Нет, в ванную он бы, наверное, все-таки не побежал – это я уже переношу собственные чувства на других, – но все равно…
Все-таки в американских триллерах, мне кажется, гораздо лучше схвачен нерв современности, чем во всей русской литературе вместе взятой! Пусть это и презренный жанр, но зато живой! Я почему-то очень хорошо запомнила сцену из довольно старого фильма Кубрика «Сияние», в котором безработный писатель (в исполнении Джека Николсона) взялся охранять огромную гостиницу в горах в зимний период, когда вокруг все заметает снегом, и это место, где расположена гостиница, становится практически недоступным для людей. Писатель сидит и все время что-то строчит на машинке… И вот однажды жена обнаруживает, что вся рукопись, которую так долго писал ее муж, состоит из трех каких-то совершенно бессмысленных, бесконечно повторяющихся фраз, что-то вроде: «Воспитывать сына. Тупо. Без игрушек». И тут она понимает, что ее муж свихнулся, хватает своего маленького сына и бежит в ванную, а писатель и вправду уже гонится за ней с топором… Фильм называется «Сияние», потому что маленький сын писателя наделен такой странной способностью излучать мысли без слов. Эту способность один старый негр в фильме и называет «сиянием».
Лично я, например, очень хорошо себе представляю, что нечто подобное вполне могло приключиться и с женой Сорокина, если бы она как-нибудь не слишком удачно открыла его роман, где-нибудь поближе к концу. И почти наверняка приключилось бы, если бы Сорокина теперь так часто не показывали по телевизору. То есть жену Сорокина тоже вполне мог охватить приступ панического страха. Но все-таки если твоего мужа часто показывают по телевизору, то это как-то успокаивает. А жена героя Джека Николсона осталась один на один с маньяком вдали от людей!
Я где-то слышала, что жена Введенского выбросила часть рукописей своего мужа на помойку, не разобравшись толком, что это такое. И я очень хорошо ее понимаю, во всяком случае, нисколько не осуждаю. Ведь жена Введенского оказалась один на один со своим мужем в обстоятельствах еще покруче, чем просто занесенный на зиму снегом отель, где вокруг все было буквально пронизано каким-то нечеловеческим зловещим сиянием – такого впечатления Кубрик, видимо, достиг при помощи особых спецэффектов. В конце концов, какие бы дифирамбы ни пел Некрасов русским женщинам, воспевая самоотверженность декабристок и т. п., но и их возможности не безграничны! Это тоже надо понимать!
Ну а что касается поэзии и вообще всей русской литературы XIX века в целом, то в последние годы только однажды, пожалуй, меня посетили серьезные сомнения на этот счет. И произошло это сравнительно недавно, когда я переводила «Север» Селина и натолкнулась на сцену, в которой Селин описывает, как его, заманив в лес, пытается соблазнить слегка перезрелая, но, в общем-то, еще ничего, жена покалеченного на Восточном фронте нацистского офицера. В этом месте Селин, затравленный со всех сторон, передвигающийся на костылях, преследуемый постоянными головными болями (последствие старой контузии), мучительно обдумывающий пути спасения от надвигающихся с Востока русских, а с Запада – союзных войск и армии генерала де Голля, начинает размышлять… Он пускается в рассуждения о надоедливости женщин, об их редкой способности доставать окружающих своими чувствами, чувственностью, глупостью и болтливостью, причем чаще всего совсем некстати, как это, надо признать, и было в данном конкретном случае.
Забавно, но, дойдя до этого места, я почему-то невольно вспомнила знаменитое стихотворение Баратынского «Не искушай меня без нужды», которое, сам того не подозревая, почти дословно, только в прозе, вдруг пересказал в этих своих рассуждениях Селин, – во всяком случае, общий смысл его мысленных рассуждений, обращенных к этой бабе, пытавшейся его соблазнить, был именно таков: «Не искушай меня без нужды… разочарованному чужды и т. д., и т. п.». И вот это неожиданное, почти буквальное совпадение мыслей абсолютно не похожих друг на друга людей, принадлежащих к тому же к совершено разным эпохам, культурам и т. п., вдруг заставило меня задуматься: а не была ли глубина разочарования в женщинах, да и в людях вообще, этого попавшегося в юности на воровстве и вынужденного потом всю жизнь тусоваться в высшем свете в солдатской шинели русского поэта XIX века и вправду сопоставима с разочарованием и одиночеством всеми гонимого и проклинаемого Селина в конце Второй мировой войны? А может быть, Баратынский был еще и более одинок?
Но едва только эта мысль промелькнула в моем мозгу, как в моем сознании как-то невольно всплыл филармонический зал, до отказа заполненный напомаженными пенсионерами. И я тут же представила себе, как некоторые из них смахивают невольно набежавшую слезу, навеянную сладкими звуками романса Глинки на стихи Баратынского, видимо, предаваясь в это мгновение каким-то своим воспоминаниям молодости… И сразу же само сравнение двух этих, если так можно выразиться, «мастеров слова» показалось мне смешным и надуманным. Они мгновенно отдалились друг от друга, снова разойдясь по своим странам и эпохам, чтобы, наверное, уже никогда больше не встретиться. Ни в чьем сознании!
А вообще-то, я думаю, когда-то все действительно считали, что в русской литературе – как в прозе, так и в поэзии – отразилось что-то очень важное и существенное для жизни, чуть ли не сама Истина. Однако в одно прекрасное мгновение все переменилось. И произошло это не иначе как в 1922 году, когда по указу Ленина были собраны практически все самые известные русские философы и интеллектуалы, посажены на корабль и отправлены за границу. Забавно, что когда-то и я разделяла широко распространенную точку зрения, будто это был акт жуткого вандализма. Но с некоторых пор я так больше не считаю. Потому что, если вдуматься, то именно с того мгновения людям вдруг и открылась самая последняя и настоящая истина о жизни и человеке, которая больше не замутнялась ни литературой, ни философией, – открылась просто в виде какого-то нечеловеческого сияния, можно и так сказать.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
ПОЛЯРНОЕ СИЯНИЕ
ПОЛЯРНОЕ СИЯНИЕ Но где ж, натура, твой закон? С полночных стран встает заря! Не Солнце ль ставит там свой трон? Не льдисты ль мечут огнь моря? Се хладный пламень нас покрыл, Се в ночь на землю день вступил! Эти слова, посвященные одному из наиболее удивительных и красивых
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ И чего вы, евреи, вечно суетесь, куда не просят? Сидели бы себе да помалкивали в тряпочку... Так нет же!.. Вот за это вас и не любят!(Из разговора)1Наверняка я мог бы начать этот рассказ так:«Она упала в мою кровать среди ночи...»Или:«Это была первая женщина в моей
Глава 6 «Главная глава». Замещение
Глава 6 «Главная глава». Замещение На страницах книги мы обсуждали те факторы, которые позволяют слугам царицы Толерантности последовательно и неумолимо идти к достижению собственных целей. Давайте их кратко вспомним и предварительно подытожим. Сократить рождаемость в
Полярное сияние
Полярное сияние Люди, которым посчастливилось наблюдать полярное сияние — необычное явление свечения, наблюдаемое на небе, — называют его самым завораживающим и грандиозным зрелищем.Вот как описывает это поразительное атмосферное явление Фритьоф Нансен: «Все небо
Глава 4 В которой глава кремлевской администрации Дмитрий Медведев создал новое российское сословие
Глава 4 В которой глава кремлевской администрации Дмитрий Медведев создал новое российское сословие Дмитрий Медведев производит очень необычное для политика впечатление — он кажется хорошим человеком. По нему видно, что он не очень уверен в себе, — особенно это
Глава 5 В которой глава администрации президента Украины Виктор Медведчук остался последним украинцем, которому верит Путин
Глава 5 В которой глава администрации президента Украины Виктор Медведчук остался последним украинцем, которому верит Путин В начале нулевых Медведчук на фоне украинских политиков выглядел как человек из космоса. Абсолютный европеец, совершенно не похожий на
Сияние двух сердец
Сияние двух сердец У каждого из нас есть два сердца. Их часто путают. Первое находится в вашем теле. Это самый мощный насос в мире, созданный для непрерывной работы и перемещающий огромные объемы насыщенной кислородом крови по кровеносным системам вашего тела. Обычно оно
Северное сияние / Общество и наука / Телеграф
Северное сияние / Общество и наука / Телеграф Северное сияние / Общество и наука / Телеграф Финские оленеводы придумали, как уберечь северных оленей, которые тысячами гибнут в ДТП. Чтобы сделать четвероногих заметными, решили наносить на их
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ НИКОЛАЯ ЛОЯ (О художнике Лое Н. П.)
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ НИКОЛАЯ ЛОЯ (О художнике Лое Н. П.) Выпускник Харьковского художественного института, украинец Николай Павлович Лой приехал в Норильск сразу после защиты диплома по приглашению местных властей — оформить спортивный зал и плавательный бассейн. Оформил и…
Южное сияние
Южное сияние Библиосфера Южное сияние ЖУРНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ В Ставрополе вышел в свет первый номер ежемесячного литературно-публицистического журнала «Сияние». Событие для нашего края неординарное по нескольким причинам. Во-первых, журнал будет издаваться не на
Северное сияние талантов
Северное сияние талантов Северное сияние талантов АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ "ЛГ" беседует с ректором Северо-Восточного федерального университета Евгенией Михайловой о культурной жизни в Республике Саха (Якутия). Евгения Михайлова - человек яркий, всесторонне образованный.
Вечное сияние чистой страсти
Вечное сияние чистой страсти Анастасия Белокурова 31 июля 2014 0 Культура "Белый ягель" (Россия, 2014, режиссёр - Владимир Тумаев, в ролях - Евгений Сангаджиев, Ирина Михайлова, Пётр Баснаев, Ефим Степанов, Матрена Корнилова, Галина Тихонова, Долдин Тангатова, Сэсэг Хапсасова,
Сияние вечной красоты
Сияние вечной красоты Сияние вечной красоты ШТРИХ-КОД В корпусе Бенуа Русского музея - первая персональная выставка одного из самых известных представителей русской реалистической школы Дмитрия Жилинского. Мастер родился на юге России в 1927 году, поэтому
СИЯНИЕ СЛАВЯНКИ
СИЯНИЕ СЛАВЯНКИ Сколько же у нашего народа военных песен? Точнее всего на этот вопрос может ответить историк, композитор и музыковед, полковник в отставке Юрий Бирюков, собравший более сорока тысяч русских военных песен и изучивший историю каждой. О многих из них он
Сияние над Окой
Сияние над Окой * * * Галактик разноцветное брожение. И разные туманности листая, По небесам летит созвездий стая, Роняя в реки крыльев отражение. Вся красота большого мироздания И радужные отблески для верности В пространстве разместились на поверхности Небесного