Глава 40 Загадка русской литературы
Глава 40
Загадка русской литературы
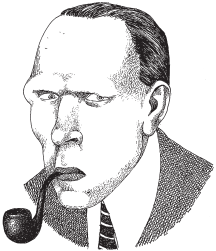
Существует расхожее мнение о переменчивости моды в искусстве и в жизни: длинные юбки меняются на короткие, узкие брюки – на широкие, на смену котелкам приходят шляпы… Однако, если хорошенько подумать, то постоянно меняется ведь не только легкомысленная и легковесная мода, но и такие «фундаментальные» вещи, как добро и зло, например. И в истории русской литературы ХХ века это прекрасно прослеживается. А между тем некоторые люди, по моим наблюдением, на моду вообще не реагируют, зато чередование добра и зла их почему-то чрезвычайно волнует, причем до такой степени, как будто в момент их очередной смены затрагиваются чуть ли не самые глубокие основы человеческого бытия. Странно! И особенно странно потому, что в смене моды всякий раз присутствует нечто неожиданное, а порой даже шокирующее, тогда как чередование добра и зла своим однообразием чем-то напоминает мне смену дня и ночи: сначала смеркается, потом наступает ночь, потом опять начинает брезжить рассвет и т. д., и т. п. Вот так и зло сменяет добро, а потом – наоборот. Никаких сюрпризов и отклонений от раз и навсегда заведенного порядка вещей!
Моя мамаша, помню, мне постоянно вдалбливала, какая хорошая и веселая жизнь была у нее в детстве, хоть жили они небогато: бабушка одна воспитывала двоих дочерей, муж ее умер от тифа в Одессе, – но все равно было очень весело. Главное – это атмосфера веселья, радости, легкости, счастья, которая запомнилась ей на всю жизнь. По воскресеньям бабушка наряжала ее и мою тетю в нарядные голубые платьица с кружевными оборочками, белые носочки, белые босоножки, и они отправлялись в ЦПКиО. Сперва они долго ехали на трамвае, с пересадкой, а когда добирались до парка, то попадали в настоящий рай: яркая зеленая трава, красные и желтые цветы, голубое небо, солнышко! А из динамиков громко-громко раздавалась веселая песня:
На аллеях центрального парка
В темной грядке растет резеда,
Можно галстук носить очень яркий
И быть в шахте героем труда!..
Потому что у нас каждый молод сейчас
В нашей юной прекрасной стране!
Моя мама всегда тут же начинала громко ее напевать, у нее вообще в молодости был очень хороший звонкий голос и слух, и ее даже как-то пригласили петь на радио. Она потом и меня научила «петь про резеду». Мне эта песня одно время тоже очень нравилась…
В детстве она жила в большой питерской коммуналке на Покровской площади, в самом конце Садовой улицы, в огромном черном доме, почти что под самой крышей, на последнем этаже. Я и сама еще застала эту большую тридцатиметровую комнату с балконом, где за шкафом жила прабабушка Уля, совершенно лысая старушка, носившая на голой голове черную суконную круглую шапочку, всегда одетая в черную сатиновую юбку и темно-синюю кофточку в белый горошек. По праздникам она украшала эту кофточку белым кружевным воротничком и отправлялась в церковь.
Ни одного лета моя мама не провела в городе! Когда она ходила в детский сад, их вывозили на дачу в Вырицу, а потом, уже в школе, – в пионерские лагеря, в Репино, в Зеленогорск… Как там было весело! Они играли в лапту, в догонялки, а по вечерам собирались у костра и опять пели песни, а она, моя мамаша, пела лучше всех, поэтому ее всегда просили спеть еще. Когда ей было двенадцать лет, в нее влюбился мальчик из старшего класса, Володька Зарубин: он дарил ей цветы – приносил рано утром, когда она еще спала, и кидал через окно ей на кровать. И она просыпалась от сладкого запаха сирени и жасмина. Это ощущение счастья сохранилось у нее на всю жизнь. Однажды он даже больно попал этим букетом маме в глаз, и у нее долгое время был черный фингал, но все равно, ощущение счастья от этого не уменьшилось.
И в школе у них были очень хорошие учителя. Генриетта Марковна, например, учительница литературы: такая строгая дама в пенсне и в черном костюме, чрезвычайно эрудированная и начитанная, она всегда хвалила мамины сочинения и даже говорила, что у нее есть талант, и ей непременно нужно стать писательницей. А какие прекрасные фильмы тогда показывали! Моя мамаша в молодости просто обожала Любовь Орлову и Марину Ладынину. Это были настоящие красавицы, с золотыми волосами, лучистыми глазами и соблазнительно блестящими губками. Моя мама и сама была настоящей красавицей, она даже точно так же подкрашивала себе губки и глазки, как Любовь Орлова – ей многие говорили, что она на нее похожа. А Любовь Орлова к тому же была еще и секс-символом тридцатых годов.
И именно в тридцатые годы, кстати, начался один из самых затяжных светлых и радостных периодов в русской литературе, в сравнении с которым даже радужные рассказы мамы о своей молодости несколько блекнут. Я бы сказала, что в то время советских людей переполнял избыток добра. Что и составляет главную отличительную черту и одновременно главную проблему тех лет. Но ведь идеальных времен не бывает: плохое и хорошее тоже всегда соседствуют в жизни, как день и ночь… Так что желательно просто брать от каждого времени самое лучшее, а плохое отбрасывать. В данном случае надо соответственно отбросить этот избыток добра, и тогда останется одно чистое добро, не замутненное никакими изъянами.
К тому же некоторый перебор с добром в тридцатые годы очень легко объясним. До этого ведь в русской литературе доминировали всевозможные извращенцы вроде Сологуба, Арцыбашева, Розанова и им подобных. В результате у личностей, не сумевших себя в то время как следует реализовать и вынужденных прозябать в тени этих извращенцев, накопилось на душе очень-очень много добрых и светлых чувств, которые потом и выплеснулись на страницы книг и экраны кинотеатров. Что и привело к появлению такого удивительного феномена, как русская литература тридцатых годов. Вот и все! Даже странно, что до меня эту причину не разглядел ни один отечественный литературовед и историк литературы. Хотя порой именно то, что лежит на поверхности, самое простое и очевидное, и ускользает от человеческого восприятия. Видимо, так произошло и на сей раз.
А может быть, все дело в том, что я и сама живу в такое время, когда после целого десятилетия всевозможных извращений и злобы, буквально захлестнувших отечественное искусство, души многих людей опять переполнились избыточным добром, которое тоже уже потихоньку начинает выплескиваться на страницы книг и экраны телевизоров? Поэтому мне и проще, чем другим, все это понять и почувствовать – я имею в виду своих предшественников, – я даже явственно ощущаю неизбежность предстоящей смены и могу говорить об этом совершенно спокойно и уверенно – так, будто это и вправду всего лишь смена дня и ночи…
Хотя, должна покаяться, лично мне всегда больше нравилось зло во всех его разнообразных проявлениях. Даже не знаю почему. Может быть, потому что я очень долго читала исключительно одни сказки, причем не только в детстве, а уже будучи во вполне сознательном возрасте, когда все нормальные люди уже давно начали читать романы. Допускаю, что это свидетельствует даже о каком-то моем отставании в развитии, вполне возможно… Одним словом, я перечитала огромное количество сказок практически всех народов мира: от братьев Гримм до африканских, где главными героями в основном были крокодилы, змеи и обезьяны… Люди, правда, тоже встречались, но только в качестве второстепенных персонажей, которые, ко всему прочему, еще и жрали какую-то маниоку. Что это такое – я так до сих пор и не поняла. Долгое время мне казалось, что это какая-то жуткая гадость, нечто среднее между манной кашей и мороженой картошкой, к тому же омерзительно-сладкого вкуса. В результате у меня все африканские сказки запечатлелись в сознании в виде одного масштабного полотна: на плетеном вращающемся кресле сидит негр и крутится туда-сюда, улыбаясь при этом ослепительной белозубой улыбкой, а сбоку к нему подкрадывается нечто вроде огромного паука, причем самого паука я не вижу, а вижу только его блестящие, согнутые под острым углом лапки, которыми он быстро-быстро так перебирает… Примерно половина этих африканских сказок была посвящена воскрешению покойников, причем иногда почти совсем разложившихся, с лохмотьями прогнившего мяса, болтавшегося на пожелтевших костях, с высосанными червями глазами и огромными, почерневшими от сырости зубами. И вот такой трупак вдруг вскакивал и начинал выплясывать перед собравшимися неграми ритуальные танцы, а дальше мог сделать абсолютно все, о чем его попросит воскресивший его колдун, – все, что угодно, даже замочить человека, который кому-то мешает, или же забрать у него деньги и драгоценности.
И только гораздо позже я узнала, что подобные церемонии в африканской культуре существуют до сих пор и называются «вуду». Одна моя знакомая француженка, долгое время преподававшая французскую литературу в университете в Конго, рассказывала мне, что как-то, нанюхавшись вместе с приятелем всякой дряни, поддалась на уговоры и согласилась сопровождать его на одну вечеринку, куда того, в свою очередь, пригласил друг, местный житель. Так вот, она и по сей день начинает вся дергаться и заикаться, стоит ей вспомнить об этом мероприятии. «Поверь, тебе лучше об этом ничего не знать», – вот и все, что мне удалось от нее услышать после долгих расспросов и приставаний.
Кроме того, на мой вкус, в добре есть еще нечто невыносимо приторное. А я заметила, что избыток сахара человеку еще сложнее вынести, чем даже избыток горечи. Причем это в равной мере касается как пищи физической, так и духовной. Я, например, с трудом, но все-таки могу досмотреть до конца самый жуткий чернушный фильм о беспроглядном нищенском существовании полных опущенцев где-нибудь в Латинской Америке, однако уже после первых кадров какого-либо латиноамериканского сериала о любви с музыкой и песнями мне хочется немедленно вскочить и выключить телевизор.
А так как, ко всему прочему, я еще не вижу ничего особенно плохого в зле, то получается, что оно для меня практически то же самое, что и добро: я не чувствую между ними никакой существенной разницы, короче говоря… И вот поэтому, при всей простоте и очевидности того, что происходило в тридцатые годы в русской литературе, мне не совсем, не до конца, понятно поведение некоторых тогдашних русских писателей. И больше всего меня озадачивает Хармс.
Ясно, к примеру, что такие, как Мандельштам и Белый, были тогда уже совершенно отставшими от жизни людьми – это бросается в глаза и невозможно не заметить. Как ни печально осознавать, но они были обречены, и сегодня, с дистанции времени, это прекрасно видно. Личности же вроде Платонова и вовсе являлись умственно отсталыми, то есть элементарно отставшими от окружающих в своем умственном развитии, и с ними тоже вроде как все понятно… Однако Хармс мне всегда представлялся вполне полноценным и современным (само собой по отношению к тому времени) молодым человеком. И что ему мешало тоже писать исключительно о добре, как это и делал, например, тот же Маршак, находившийся с Хармсом в приятельских отношениях? Или же как чуть позднее Михалков?.. Ведь писал же Хармс вполне добродушные и веселые стихи для детей: например, про «самовар Иван Иваныч» и т. п. А значит, он, возможно, и вправду испытывал какое-то чувство симпатии к людям, хотя бы даже и маленьким и еще не успевшим до конца вырасти – о себе, к примеру, я такого сказать не могу. Но даже если это не так, то вряд ли Хармс не понимал, что подавляющее большинство людей очень мало отличаются по своим умственным способностям от маленьких детей, поэтому он все равно вполне способен был создавать точно такие же добрые и шутливые произведения, обращенные к взрослым. Наверняка, он это понимал, судя по его дневникам, и вообще… Но почему не сочинял добрых произведений, обращенных к взрослым, – не ясно! А ведь в результате этот абсурдный «прокол» фактически стоил ему жизни! С этой точки зрения, Хармс, на мой взгляд, является самой загадочной фигурой во всей русской литературе.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Будущее русской литературы в эмиграции
Будущее русской литературы в эмиграции У меня сложилось такое впечатление в ходе заседания, что вопрос о будущем русской литературы как будто уже решен в положительном смысле. Все же я хочу коротко сказать, причем довольно банальные вещи, что-то повторить из того, что уже
Блеск и нищета русской литературы
Блеск и нищета русской литературы Уважаемые господа!Прежде всего я должен извиниться перед вами за то, что не могу прочитать эту лекцию по-английски. Вот уже три года я живу в Америке и все еще плохо владею английским языком. С первых дней в Нью-Йорке я был связан с русскими
Блеск и нищета русской литературы
Блеск и нищета русской литературы Новый американец. 1982. № 111. 30 марта — 5 апреля. С. 12–15.Лекция, прочитанная 19 марта 1982 г. в университете Северной Каролины.Фосет Фара (1947–2009) — американская фотомодель и телевизионная актриса, которую называли секс-символом 1980-х гг.Али
а) Обозрение русской литературы за 1831 год (Продолжение)
а) Обозрение русской литературы за 1831 год (Продолжение) НаложницаПоэма Баратынского имела в литературе нашей ту же участь, какую и трагедия Пушкина: ее также не оценили, также не поняли, также несправедливо обвиняли автора за недостатки небывалые, также хвалили его из
а) Обозрение русской литературы за 1831 год
а) Обозрение русской литературы за 1831 год Статья И. В. Киреевского опубликована без подписи. В оглавлении вариант заглавия — «Обозрение русской словесности за 1831 год». Статья осталась незавершенной. Автор намеревался вернуться к трагедии Пушкина «Борис Годунов»,
а) Обозрение русской литературы за 1831 год (Продолжение)
а) Обозрение русской литературы за 1831 год (Продолжение) О второй части статьи И. В. Киреевского Баратынский писал ему; «Разбор „Наложницы” для меня — истинная услуга. Жаль, что у нас мало пишут, особенно хорошего, а то бы ты себе сделал имя своими эстетическими критиками.
Глава 42 Эстетический просчет русской литературы
Глава 42 Эстетический просчет русской литературы «Морали нет – есть только красота!» – в этом высказывании Савинкова, конечно в несколько утрированном виде, выразилась одна из главных антиномий человеческого духа. Причем такая, которая не кажется мне праздной выдумкой
Есть ли загадка в русской душе?
Есть ли загадка в русской душе? Мединский правильно указывает, что о загадочной русской душе, например, заговорили в 1812 году в Пруссии, после того как в России погибла Великая армия Наполеона. 450-тысячная армия под предводительством величайшего полководца вторгается в
У русской литературы закончился срок годности
У русской литературы закончился срок годности Мы слышим плач толстых министров, черносотенцев и филологических дам – они очень сожалеют, что дети не читают.Никто не задался вопросом: а что, собственно говоря, этим детям читать? Классику? А почему ее надо читать? Почему
Начатки астрологии русской литературы[35]
Начатки астрологии русской литературы[35] БИТОВ. Сначала все увлеклись зодиаками: разбирались, кто Лев, кто Рыба, кто кому подходит как пара. Симпатично было сознавать, что именно Козерогу хорошо с Девой, или оправдать свой развод совершенной несовместимостью Стрельца с
Александр I – загадка русской истории, или о государстве и народе
Александр I – загадка русской истории, или о государстве и
М. Слоним Десять лет русской литературы <Отрывок>{124}
М. Слоним Десять лет русской литературы <Отрывок>{124} <…> Работа над словом, отказ от легкой музыкальности стиха, попытка возвращения к полновесности слова, к его первоначальной выразительности, любовь к игре словесной и образам, взамен игры звучаниями и туманными
Глобус русской литературы
Глобус русской литературы Что ни лето в конце июля, в начале августа приезжают к нам в МГУ, в Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (а я там без малого уже сорок лет подвизаюсь), очень славные, как правило, люди. И проводится для них семинар: семинар
Последняя тайна литературы русской имиграции
Последняя тайна литературы русской имиграции В. Агеносов. Восставшие из небытия: Антологии писателей Ди-Пи и второй эмиграции. - М.: АИРО-XXI, 2014. – 728 с.– Тираж не указан. 14 марта в Доме русского зарубежья пройдёт презентация первого не только в России, но и в мировой