О вежливости, воспитанности и чувстве собственного достоинства (Капельку об одном, чуточку о другом и совсем немножко о третьем)
О вежливости, воспитанности и чувстве собственного достоинства
(Капельку об одном, чуточку о другом и совсем немножко о третьем)
«Золото редко, поэтому изобрели позолоту; точно так же для замены недостающей нам доброты мы придумали вежливость».
Это не я сказал, а один очень мудрый человек еще в позапрошлом веке.
И это, конечно, верно. Живя в обществе, мы не можем относиться к любому встречному, словно к родному брату, а чтоб мы не хамили на каждом шагу друг другу, даны нам правила вежливости, которые не следует переступать даже в том случае, если физиономия нашего ближнего нам почему-либо не нравится. Вежливость, таким образом, — штука хорошая, но не нужно забывать, что она все же не золото. Настоящее, неподдельное золото— это доброта, чуткость, отзывчивость, внимательность, искренне доброжелательное отношение к людям.
Казалось бы, быть вежливым очень нетрудно: заучил ряд правил — и валяй себе на здоровье. На самом деле это не так. Жизнь настолько сложна, ситуации, в которые мы попадаем в наших отношениях с себе подобными, так многочисленны и разнообразны, что выполнение самих правил требует от нашего мозга иной раз весьма серьезных логических операций, которые мы не в силах бываем произвести без помощи электронной кибернетической машины, а ее, как известно, таскать за собой всюду не станешь по причине ее абсолютной нетранспортабельности. Проще говоря, правил на все случаи жизни не напасешься. Да и мало знать правила. Надо уметь ими пользоваться. И иметь охоту к тому.
Вот случай. В вагоне метро. Молодой парень (вполне современного роста, то есть около двух метров в продольном измерении) сидел, а рядом стояла пожилая женщина с бледным утомленным лицом и с тяжелой сумкой в руках. По всему было видно, что она очень устала, бегая за покупками, и даже испытывает дурноту — вот-вот свалится. Парень, однако ж, продолжал сидеть с выражением благоразумия на лице, пока она наконец не попросила его уступить ей место.
И что же? Думаете, он сгорел от стыда? Провалился сквозь землю? Выскочил из вагона на ближайшей станции, чтоб не ощущать на себе насмешливых взглядов? Нет! Он поднялся не торопясь, учтиво отступил на полшага в сторону, чтоб дать возможность женщине сесть, да так и висел над ней всю дорогу, уцепившись за поручни, с видом ученика, схватившего на уроке двойку. А вы знаете, какой вид бывает у школьника, когда он получит двойку? Отнюдь не пристыженный, не смущенный, а вполне независимый, я бы сказал, даже молодцеватый. Вот, мол, двойку поставили, а мне хоть бы хны! Плевать!
Скажете, просто молодой человек не знал, что в каких-то случаях надо уступать своему ближнему место. Но ведь это был вовсе не какой-нибудь ископаемый волосатик из тех, что по лесу бродят с транзисторами, а вполне благообразный, благовоспитанный, на вид, мальчик (у нас теперь до двадцати лет — все мальчик).
Ну так просто, не догадался юноша, скажете, недосообразил. Это, пожалуй, уже ближе к истине будет. Недосообразил! А точнее, не особенно и торопился с этим. Его ведь учили уступать место кому: пассажирам с детьми и инвалидам, ну еще, может быть, старикам и старухам, да еще беременным женщинам… А тут женщина попалась и без детей, и на вид как будто бы не беременная, к тому же и не совсем старуха. Вот он и рассуждал без особенной спешки, прикидывая в уме: «И не инвалид вроде, и не беременная как будто, и без детей (это уже совершенно бесспорно), и не так чтоб уж очень старуха (не спрашивать же у нее паспорт)…», а драгоценное время между тем шло… Нет, он, безусловно, усвоил, что о стариках и беременных в данном случае говорится лишь для примера, а уступать вообще надо немощным: тем, кто нуждается в отдыхе больше тебя. Только зачем ему, скажите на милость, лезть поперед батьки в пекло, показывать себя таким уж передовым? Этак-то, если уступать каждому, то и вовек посидеть не дадут. Пусть, думает, воображают, что я чего-нибудь по молодости не докумекал, а я посижу покуда. Ну, а сгонят — и ладно. Смущаться нечего. Каждый понимает, что своя рубашка-то ближе к телу.
Читатель уже догадывается: сейчас, мол, начну на современную молодежь кидаться: и такая она, и сякая, мы в наше время лучше были. Никоим образом! Кидаться я буду, нодолько не на молодежь, а на старшее поколение. На тех, кому этак под тридцать, под сорок Ведь в тридцать — сорок лет человек, что называется, в самой силе. Сорокалетние даже космонавты бывает. Л что на практике происходит? Синит этакий, в полном соку, мужчина и чувствует себя в полном, так сказать, своем праве: уж он-то никому своего места уступать не собирается. Пусть, думает, кто помоложе уступит.
Но почему? На каком основании?
— А на том основании, — скажет, — что я ррработаю. Я, может, с ррработы еду: устал!
— А я не работаю? — ответит молодой человек. — Я учусь, а учеба — тот же труд. Мне небось иной раз и потяжелей приходится, особенно в старших классах. Да еще и нагрузки тут: макулатура, металлолом, дребедень всякая. Взрослые к тому же себе два выходных оттяпали, а нам по-прежнему приходится всю неделю напролет вкалывать. Выходит, я должен поминутно вскакивать да уступать место лишь потому, что мал еще, молод, не достиг равноправия, потому что каждый — надо мной начальник. Такое положение меня только унижать может, а если и учит чему, так только хитрости: погоди, мол, вот войду в полную силу — меня тоже не сковырнешь с места!.. И наконец, кто из нас все же умней, я или взрослый? Взрослый умней. А раз так, пусть он мне пример показывает.
И верно! Почему бы взрослому не показать пример вежливости, не встать, уступив место старухе, не дожидаясь, чтоб это за него сделал кто-нибудь менее опытный и смышленый? А молодежь уже будет под взрослых подтягиваться. Ведь молодому-то ох как хочется поскорей взрослым стать и во всем быть на него похожим.
Но, конечно же, всему свое оправдание есть, на все есть причины. Каждый (в том числе и человек взрослый) знает, что нужно быть вежливым. Да ведь одно дело сказать «здравствуйте» или «до свидания», или там «извините», «спасибо», «пожалуйста». Это что? Слова! Этого добра, как говорится, для хорошего человека не жаль. А вот уступить место в автобусе или метро — это вопрос уже более сложный. Тут поневоле задумаешься, поскольку приходится поступаться чем-то существенным для себя, жертвовать своим удобством для черт его знает кого, кого до сих пор и в глаза не видел, и в дальнейшем наверняка не встретишь, так что нет никакой надежды получить за свою любезность что-либо взамен.
Скажете, что делается это скорее по невоспитанности, без каких-либо расчетов и соображений. Сомневаюсь! В общем-то публика наша стала более воспитанна, чем была когда-то. В последнее время не только юноши, но и девушки стали как-то усерднее уступать престарелым место на городском транспорте. Но это, заметьте, только на городском, а пойдите-ка вы на пригородный поезд — черта с два вам там кто-нибудь место уступит. Оно и понятно. В метро-то ехать всего две-три каких-нибудь остановки. А тут, выходит, уступил место, а сам как дурень будешь до самых Белых Столбов на своих на двоих маяться.
Может быть, думаете, на пригородном поезде какая-нибудь особенная, загородная публика, еще не приобщившаяся к вершинам передовой городской культуры? В таком случае пойдите вечерком в театр или в кино в центре города и ждите, чтоб вам перед началом сеанса в фойе кто-нибудь уступил место на лавочке. Можете и не надеяться. Все равно никто не уступит, будь вы самый что ни на есть старик-перестарик или старуха-перестаруха.
— Удивительнейшая прямо-таки, скажу вам, вещь! В метро уступят, в трамвае уступят, в электричке даже, на худой конец, уступить могут, а в кино — и думать не моги, как принято говорить! Я долго ломал голову, стараясь понять, в чем здесь дело, и только случай помог уразуметь истину.
Однажды еду в троллейбусе. С трудом протискиваюсь к выходу сквозь толпу пассажиров пенсионного возраста, вошедших через переднюю дверь. Вдруг слышу позади возмущенные возгласы:
— Эй, вы там! Старичье! Пенсионеррры! Налезли через переднюю площадку, черт вас дери! Не вылезешь из-за вас тут на своей остановке!
Уже выходя из троллейбуса, я обернулся невольно, чтоб взглянуть на этого пенсионероненавистника: нет, не юноша, не десятиклассник, а вполне зрелый, по всей видимости, самостоятельно зарабатывающий на жизнь молодой мужчина в изящной фетровой шляпе и с модными бакенбардами на тщательно выбритом, слегка располневшем, румяном лице.
Заметив мой взгляд, он сказал вполне дружелюбно и как-то успокоительно:
— Это я не вам. Это я их вот, пенсионеров, ругаю. Налезли, понимаете.
— Чем же человек виноват, если дожил до пенсионного возраста? — начал было я.
— А дожил, так надо дома сидеть! — проворчал он.
Тут и стало все ясно. Если ты старый, если ты дряхлый, если в тебе душа еле держится, то нечего вылезать на свет божий. Твое дело дома сидеть, благо государство обеспечивает тебя пенсией, а ты, вишь, еще лезешь куда-то, лишая удобства тех, в ком кипят еще силы, да еще требуешь к своей особе внимания! Ну, ладно, если ты мне попался в метро, то я тебе окажу внимание: уступлю место на лавочке, потому что в метро установлено такое правило. Но в театре — это уж увольте, пожалуйста. Здесь такого правила нет, потому что никто тебя силком не тянет в театр ходить. В театр или кино каждый ходит по своей доброй воле, за свои денежки, и если тебе тяжело стоять в фойе, подпирая стенку спиной, то сиди дома да ешь галушки.
Как видите, есть в этом рассуждении своя логика. Нет лишь понимания того, что пенсия — это для человека еще не все, что сидение дома — не предел мечтаний, а галушки — не такое уж счастье, что старый человек, хоть он и старый, но еще живой, в качестве какового тянется к жизни, к свету, к людям, к искусству, и ему не так просто вычеркнуть себя из списков живущих и чувствующих.
Нет, я вовсе не хочу утверждать, что человек недостаточно воспитанный рассуждает именно в такой грубой форме. Но таков все же смысл его рассуждений, вернее, был бы смысл, если бы он взял на себя труд размышлять. Он, однако, в каких-то случаях действует рефлекторно, без размышлений, проявляя скорее эмоциональную сторону своей натуры, нежели способность к логическим умозаключениям. Его, к примеру, толкают — ему это неприятно, — он и кричит: «Старичье!» Он по инстинкту знает, что сидеть удобнее, чем стоять, вот и приспосабливает свои мысли под свои ощущения, иначе говоря, ставит свои мыслительные способности на службу удовлетворения этого, так называемого инстинкта комфортабельности, что в конечном итоге сводится к созданию жизненной философии, наглядным выражением которой являются всем известные афоризмы насчет батьки, поперед которого не следует скакать в пекло, и рубашки, которая ближе к телу.
Власть инстинкта комфортабельности над нашим бренным телом (хоть он и послабей таких инстинктов, как пищевой, скажем, или оборонительный) настолько велика все же, что если находится какая-нибудь лазеечка в виде мыслишки, оправдывающей наше свинство, мы сейчас же ею воспользуемся («Дома надо сидеть, а он лезет еще куда-то!», «Ему в крематорий пора, а он…» и т. д.). Для удовлетворения этого комфортабельного инстинкта иной человек может поступиться многим, в том числе и собственным достоинством. Некоторые молодые люди, вполне респектабельные на вид, настолько не заботятся о собственном достоинстве, что при всей своей двухметровости умудряются прошмыгнуть под локтем у какой-нибудь крошечной старушонки, торопясь занять раньше нее место в вагоне. Ну, этих мы амнистируем авансом, понимая, что в них еще затянувшееся детство играет. А вот те, которым под тридцать, под сорок — с них-то ведь и спрос больше. Эти, правда, под локтем не проскакивают (солидность не позволяет), но есть среди них такие, что если уж сядут, то так и будут сидеть, низенько опустив голову и уткнувшись носом в газету, словно их не учили в детстве, что, находясь в общественном месте, надо поживей вертеть головой в стороны, чтобы не пропустить невзначай того, кому твоя помощь может понадобиться, словно не говорили им, что в качестве оправдательной причины в данном случае никак не принимается то, что ты, к примеру сказать, крепко задумался или увлекся чтением.
Ну учить-то их, наверно, учили, если не в детском возрасте, то хотя бы в юношеском, но они, видать, полагают, что такого рода жизнепрепровождение с опущенной головой не унижает их человеческое достоинство. Э, да шут с ним, с этим достоинством, думают, должно быть, они, какая от него польза! К тому же, что оно такое, достоинство это самое? Как его прикажете понимать? Ведь на этот счет единого мнения нет. Если верить четырехтомному Словарю русского языка (изд. Академии наук СССР, 1957 г.), то достоинство — это «Уважение к себе, сознание своих прав, своей ценности», а также «Внешнее проявление сознания своей значимости, уважения к себе». Поскольку так, то как же я смогу проявить внешне сознание уважения к себе, если буду поминутно вскакивать, уступая кому-то там место? Это достойно скорее какого-нибудь мальчишки, школьника, а не человека солидного, полного сознания своей значимости. Я-то ведь и на работе у себя кое-что значу, и возраст у меня внушительный, так что пусть лучше вскакивают те, кто посопливее да поменее меня значат.
Но, с другой стороны, если верить четырехтомному Толковому словарю Ушакова, то достоинство — это «Необходимые моральные качества, моральная ценность человека». То есть уже нечто совсем другое, как видите. Если по словарю академии достоинство — это то, что человек думает о себе, то по Ушакову — это уже то, чем человек на самом деле является (то есть во мнении других людей), причем, конечно, не с одной производственной стороны, а вообще со стороны моральной, этической, нравственной.
Однотомный Словарь русского языка Ожегова определяет достоинство как «Совокупность свойств, характеризующих высокие моральные качества, а также сознание ценности этих свойств и уважения к себе». Это, пожалуй, наиболее полно и верно. Мы уважаем себя, сознавая общественную ценность наших моральных качеств. Мы чувствуем, что нам есть за что себя уважать, так как ведем себя достойно культурного человека (Гомо сапиенс), и замечаем, что другие уважают за это нас.
Что ж, составители словарей тоже ведь не какие-нибудь оракулы или пророки, а все те же люди, которым ничто человеческое не чуждо. И это имеет свою положительную сторону, хотя бы ту, что, даже не обращаясь к самой жизни, а лишь заглянув в словари, мы можем узнать, что думают и как живут люди. Одни, как нетрудно убедиться, думают и живут по словарю Академии и, хотя не имеют необходимых моральных качеств, относятся к своей особе с величайшей почтительностью и держат голову высоко (поскольку никому ведь не возбраняется иметь о себе самое высокое мнение). Другие живут по словарю Ожегова или Ушакова и, хотя признают ценность моральных качеств вообще, все же не задирают особенно головы, поскольку сами-то придерживаются рубашечной философии. Одни полагают, что сохраняют достоинство, пока сидят, в стоячем же виде того достоинства уже не имеют. Другие думают: «А что такое достоинство?» Фу-фу, как любил говорить Чичиков, вещь совершенно неощутимая, а рубашка-то эвон, ее и пощупать можно.
Между этими двумя демографическими категориями существуют, без сомнения, и другие. Имеются и вполне безупречные люди. И таких множество, я бы сказал — подавляющее большинство. Так что положение в области вежливости и воспитанности у нас в общем благополучное. Отдельные промахи в счет не идут, поскольку они всегда могут быть ввиду сложности обстановки (о чем уже говорилось).
И если у нас в этой области чего нет, то лишь одного.
А именно:
Представьте себе сидящего в вагоне метро милого юношу (скажем, десятиклассника), вполне культурного вида, с хорошими манерамн, которого никак не заподозришь в незнании правил вежливости, то есть такого, который без раздумий уступит место не только какой-нибудь древней старушке, но даже и не окончательно еще пожилому мужчине. Вообразите еще сверх того стоящую рядом девушку, его ровесницу, чудесное создание удивительной красоты. Девушка вошла в вагон позже, когда все места уже были заняты, и теперь, естественно, едет стоя.
Итак, представляете себе?.. Поезд мчится, стучат колеса, на остановках хлопают двери, входят новые пассажиры. От внимания нашего милого юноши не ускользает красота его юной спутницы. С невольным восхищением он поглядывает снизу вверх на стоящее перед ним «мимолетное видение», на этого, как выразился поэт, «гения чистой красоты», и испытывает явное эстетическое наслаждение. На губах его играет улыбка счастья. Его ресницы все чаще вскидываются кверху, а глаза с трудом, да и то ненадолго, отрываются от лица незнакомки. Но странное, однако ж, дело! Молодой человек почему-то не чувствует вместе с тем позыва послужить прекрасному и, поднявшись с места, предложить своей спутнице сесть.
И он прав (скажем сразу, чтоб не пускаться в излишние рассуждения), потому что не хочет быть смешным. Он же видит, что перед ним не старуха, не инвалид безногий, не женщина с ребенком и даже не беременная. А уступать место женщине просто так, за то что она женщина, это еще под каким соусом? Ведь — равноправие! Если бы он уступил вдруг девушке место, получилось бы — только за то, что она красавица. И это тотчас же бросилось бы всем в глаза (не устоял, дескать, парень! Ха-ха! Не выдержал!). А что, если бы девушка оказалась и не с такой блестящей внешностью, а чуть покурносее, и не ровесница, а на год или на два старше, а может быть, и на все пять или десять лет — и тогда, значит, уступать надо? Он бы и уступил, может быть, и в том, и другом, и в пятом, и даже десятом случае, да ведь знает, что… равноправие. Конечно, на этот раз нечего было опасаться подозрения девушки, что ее за старуху приняли. Но ведь в сложном круговороте жизни и такие ситуации возможны.
Однажды еду в метро. На остановке входит не совсем еще пожилая женщина с измученным, утомленным лицом и с плотно набитой хозяйственной сумкой в руках (в этом возрасте они почему-то почти всегда с сумкой). Я как-то совершенно невольно, ну, как-то совсем машинально встаю, чтоб уступить ей место, а она говорит:
— Да мы с вами как будто в одном возрасте.
Признаюсь, я почувствовал себя в положении человека, совершившего, по меньшей мере, бестактность. Стараюсь выпутаться из смущения, лепечу что-то вроде:
— Простите, пожалуйста! На мой взгляд, вы даже моложе, но вы все-таки женщина… (ох, еще это «все-таки» здесь!)
— Ну, теперь это уже… — махнула она рукой, но все-таки села.
Думаю, что «теперь это уже» должно было означать: «Теперь это уже перестало иметь значение; в наше время не принимается в расчет, женщина ты или мужчина, потому что у нас равноправие и т. п.» Хотя в тоне, каким эти слова были сказаны, явно слышалось сожаление по поводу того, что «теперь это уже и т. д.», я все же почувствовал себя несколько старомодным (да что там «несколько»! — просто старомодным, да и все тут). Как-то незаметно для самого себя я отстал от жизни, от передовых идей, не отдаю себе отчета, что и сам уже далеко не молод, и теперь уже имею «полную праву» сидеть и глядеть бесстрастно на то, как женщина приблизительно моих лет, возвращаясь с работы и заскочив предварительно в магазины, мается на ногах с сумкой, которая мучительно оттягивает ей руки, а ее вдобавок толкают со всех сторон и в бока, и в живот, и в спину (часы «пик» — ничего не поделаешь). Если же я встану и уступлю ей место, так это ее еще и обидеть может: напомнит о ее не так чтоб уж слишком молодых годах (подумает, что и совсем за старуху приняли). А какой женщине это приятно? Никакой женщине это не приятно! Да и нашему брату мужику — тоже. Все хотят быть молоды и красивы.
Другое дело — если бы существовало правило, что при прочих равных условиях (отсутствие или наличие тяжелых увечий, свежих перевязанных ран, тяжелой клади и пр.), мужчина должен уступить женщине место, поскольку женщина по природе своей вообще более слабое существо, и само равноправие требует, чтобы ей в таких случаях было оказано предпочтение. Если бы существовало такое обыкновение, женщина могла бы свободно принять от любого мужчины эту ничтожную в конечном счете услугу без подозрения в том, что она оказывается ей по причине ее слишком преклонного возраста или. наоборот, в награду за ее молодость и привлекательность.
В таком случае, обе стороны чувствовали бы себя, как бы это сказать, ловчее, что ли, и по крайней мере знали бы. как поступать, то есть мужчины оказывали бы предпочтение женщинам с готовностью и без смущения, женщины же принимали бы эти «жертвы» с удовлетворением и благодарностью.
Мы, однако ж, и самой женщине как-то исподволь, как-то стихийно внушили иное понимание этого «равноправия»: дескать, имеет равное со всеми право маяться на ногах, даже в том случае, когда мужчина ее возраста (и даже более молодой) спокойно посиживает и в ус, как говорится, не дует только на том основании, что раньше захватил место.
Выступая в печати с сожалениями по поводу того, что нами утрачен якобы существовавший когда-то дух рыцарства, некоторые из авторов, пишущих на темы воспитания, часто высказывают мысль, что воспитывать уважение к женщине надо чуть ли не с пеленок, по крайней мере с первого года обучения в школе, рекомендуя приучать первоклассников помогать своим соученицам носить сумки с книжками по дороге в школу, помогать снимать пальто в гардеробной и т. д. Авторы подобных статей на полном, как говорится, серьезе утверждают, что из тех мальчиков, которые в первом классе будут носить своим сверстницам сумки с учебниками, получатся в будущем хорошие мужья, а из тех, которые не будут этого делать, вырастут мужья скверные, не способные создать крепкую, хорошую, спаянную семью.
Я думаю, это все же не так. По-моему, действуя по такому рецепту, можно добиться лишь того, что мальчишка на всю жизнь возненавидит девчонку, которой вынужден прислуживать подобным образом, а вместе с ней и всю остальную прекрасную половину человеческого рода. Хоть он и мал, но хорошо видит, что девочка не такое бессильное существо, чтоб не дотащить своей сумки до школы. К тому же он больше всего на свете ценят свободу, и тащить две сумки там, где, по его мнению, и одной достаточно — может показаться ему вопиющей несправедливостью. Особенностью его возраста является то, что он не терпит никакого насилия над собой, любит, чтобы обе руки его были свободны от ноши, и, даже путешествуя в школу с одним портфелем, размахивает им на всяческие лады, превращая его силой воображения то в саблю, то в самолет, то в космическую ракету или в подводную лодку.
Это правда, конечно, что воспитывать уважение к женщине надо с младенческих лет, но самая правильная система воспитания уважения к женщине на данном этапе заключается, в основном, в том, чтобы не воспитывать неуважения к ней. А мы, в сущности, только этим и занимаемся, когда, например, отказываем девочке в игрушках, предназначенных (по давно установившейся негодной традиции) для мальчиков, или, наоборот, внушая мальчику, что ему стыдно играть в девчоночьи игры.
Какая мать не говорит своей маленькой дочке:
— Эта игрушка не для девочки. Тебе не автомобильчик надо, не паровозик, не саблю или солдатики, а куплю я тебе лучше игрушечную посуду, куклу или заводную стиральную машину.
Нужно знать этот возраст (а его нужно знать), чтобы понимать, с каким доверием относится он ко всему, сказанному взрослыми, и с каким усердием стремится он выполнять предписываемые обществом правила. Мне лично трудно представить девочку, которая не посмеялась бы над своей подружкой, взявшей в руки так называемую мальчишечью игрушку.
Взрослая женщина уже давно обходится запросто с автомобилем, трактором, самолетом и даже с космическим кораблем, а маленькой девочке мы отказываем в удовольствии поиграть игрушечным автомобильчиком, ограничивая ее жажду познания, угнетая ее познавательный инстинкт как раз в тот период, когда он нуждается во всемерной активизации и поощрении. Уже в детском саду можно наблюдать это постыдное размежевание, когда мальчики играют между собой с машинками, самолетиками, возводят посреди комнаты крепости и с пренебрежением поглядывают на девочек, которые, пристроившись где-нибудь под стеночкой или в углу, потихоньку возятся со своими куклами. Такое размежевание не может не внушать мальчикам идею о какой-то ограниченности, неполноценности девочек, интересы которых не выходят за пределы кухонной утвари и кукольных гарнитуров. Откуда мальчишке четырех-пяти лет знать, что эти чисто девчоночьи интересы, в основном, навязаны девочке взрослыми, а вовсе не являются ее, так сказать, «расовой» принадлежностью.
Пусть мальчики и девочки (по крайней мере в дошкольном возрасте) будут равноправными гражданами, пусть они играют в общие игры, а они могут и будут это делать, если взрослые не станут им мешать, а, наоборот, будут разумно направлять их. Тогда никому из детей не станут приходить в голову мысли о каком-то преимуществе или неполноценности того или иного пола. Не воспитав предварительно пренебрежительного отношения к девочке (следовательно, вообще к женщине), легче будет воспитать уважение к ней в тот период, когда это уважение уже в какой-то мере может испытываться.
Надо понимать, что в деле воспитания требуется вообще больше ума, чем рвения, и не следует забывать, что здесь, как и в лечебной практике, большую роль играет не только само лекарство, но и правильная дозировка. Заставить малыша носить помимо своей сумки еще и сумку сверстницы — это все равно, что вкатить котенку дозу лекарства, рассчитанную на слона. Лечебный эффект может оказаться совершенно противоположным ожидаемому. На первое время, я думаю, будет достаточно, если мы сообщим малышу, к примеру, правило, что если ребят двое — мальчик и девочка, а место одно, то принято, чтоб мальчик уступил место девочке. Такое правило можно преподать уже младшему школьнику и даже дошкольнику, а мы до сих пор не внушили его даже десятикласснику, иначе он не сидел бы в вагоне, как пень, когда рядом стоит девушка, его ровесница, или, что еще непригляднее, женщина не первой молодости.
Положа руку на сердце, никто не скажет, будто не знает, что к женщине вообще следует быть внимательным. Путешествуя на городском транспорте (и даже на пригородном), ожидая в фойе театра, кино и прочих местах, мы всегда предоставим право сидеть жене, родственнице или знакомой девушке, а не усядемся сами. В этом, однако ж, никакой нашей заслуги нет, так как, оказывая услугу человеку близкому, мы оказываем ее как бы самим себе, в силу чего такое деяние никак не влияет на нашу психику, никакой пользы не приносит нашей нравственности. А вот оказать услугу человеку совсем чужому — это деяние уже воспитывающее, развивающее наши добрые чувства к человеку вообще, к человеку как таковому.
Тацит сказал: «Человеку свойственно ненавидеть того, кому он причинил зло». Подумаем все же, какой человек способен причинить зло? Злой человек, конечно! Перевернем пословицу — и получим: «Человеку свойственно любить того, кому он сделал добро». Древнегреческая мудрость гласит: «Доброта, встречая благодарность, увеличивается, а претерпев поругание, гневом разражается». И верно, конечно! Доброта как бы поощряется благодарностью. Пусть сделанное нами человеку добро — невелико, но, уловив в человеческих глазах выражение благодарности, мы словно заглянем на секундочку ему в душу (глаза-то ведь — зеркало человеческой души), и увидим в нем уже нечто родственное нам самим, то есть истинно человеческое, духовное, а не сугубо механическое, без толку толкущееся, куда-то прущее и мешающее нам на каждом шагу.
Давайте попробуем быть подобрей с женщиной только за то, что она женщина — наша мать, сестра, жена, просто подруга, которая делит с нами все наши тяготы, беря на себя из жизненной ноши подчас наиболее тяжелую часть. Давайте, на первое время, попробуем уступать ей при случае место — и увидим, как сами станем от этого совсем другими: сделаемся сразу лучше, и мягче, и ласковей, и добрей; и не только по отношению к ней самой, но даже друг к другу. И тогда убедимся, что невозможны станут случаи, подобные описанному недавно в «Вечерней Москве», когда сын отказался встречаться с матерью только потому, что этого потребовала от него жена Ведь если мы станем добрей к женщине, то и она станет добрей к нам, и тогда уже невозможна будет такая жена.
Давайте попробуем, ведь это нам совсем ничего и стоить не будет, а выиграть мы можем многое. Только не будем забывать, что и тут надо не без ума, не без размышления; что и тут нужен индивидуальный, нешаблонный, неавтоматический, некибернетическнй подход; что негоже будет, если мы станем ждать, чтоб молоденькой девушке уступал место старик и даже не совсем еще старый мужчина, годящийся ей в отцы; а что, наоборот, будет прекрасно, если девушка и даже молодая женщина уступит место старику, что, кстати сказать, многие из них и теперь делают, причем с присущей им мягкостью и добросердечностью.
Пусть юноша не чувствует неловкости, уступая место девушке, своей ровеснице. Пусть он относится к этому как к норме, как к своему человеческому долгу, выполнение которого внушает чувство удовлетворения; пусть он понимает, что это не пижонство, не галантность, не соблюдение правил хорошего тона, не рыцарство, не телячьи нежности, не средневековое учтивство, не селадонство, не колбасятина, не этикет, а вполне нормальное, вполне достойное человеческое поведение.
Знание этого правила даст молодому человеку неизмеримо больше знания того, что уступать место надо старикам и старухам. Молодому человеку приходится иметь дело в основном не со старухами, а с девушками его возраста, во мнении которых он заинтересован и в общении с которыми складываются его характер и нравственные понятия, его мировоззрение.
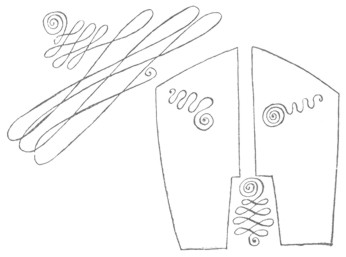
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Рышард ЛИСКОВАЦКИЙ (ПОЛЬША) НЕМНОЖКО О ГОСПОДЕ БОГЕ, НЕМНОЖКО О ТОВАРИЩЕ МАЕВСКОМ
Рышард ЛИСКОВАЦКИЙ (ПОЛЬША) НЕМНОЖКО О ГОСПОДЕ БОГЕ, НЕМНОЖКО О ТОВАРИЩЕ МАЕВСКОМ Я хорошо помню эту историю, ибо произошла она именно в тот день, когда должно было состояться освящение нашего алтаря. Ксендза мы привели издалека, с улицы Гданьской, из того маленького
ЧУВСТВО СОБСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА
ЧУВСТВО СОБСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА Чувство собственного достоинства... Кроме этого ничего Не придумало человечество Для спасения своего.Булат ОкуджаваУникальность еврейства — в многовековой диаспоре, в его разноязычии, в особенностях развития различных его частей. Но
Письмо тринадцатое О ВОСПИТАННОСТИ
Письмо тринадцатое О ВОСПИТАННОСТИ Получить хорошее воспитание можно не только в своей семье или в школе, но и… у самого себя.Надо только знать, что такое настоящая воспитанность.Я не берусь давать «рецепты» воспитанности, так как сам себя вовсе не считаю образцово
Удивительная вечеринка с мадемуазель Ксавье и десятью чуточку пьяными старушками, оплакивающими свои двадцать лет…
Удивительная вечеринка с мадемуазель Ксавье и десятью чуточку пьяными старушками, оплакивающими свои двадцать лет… Убедившись, что это и есть дом номер тридцать, я останавливаюсь перед большим унылым зданием. Сквозь подворотню виден длинный ряд дворов и построек. Вход
О чувстве добра и взаимопомощи
О чувстве добра и взаимопомощи Виктор Кожемяко: Валентин Григорьевич, минувший год для вас прошел под знаком вашего юбилея. Семидесятилетие – дата существенная. Тут хочешь не хочешь, а обратишься, как говорят, мысленным взором на прошедшее. В своих выступлениях вы
О социализме, «разжигании розни» и чувстве справедливости
О социализме, «разжигании розни» и чувстве справедливости Но вернемся в Дом Пашкова, на «установочное» торжество в честь нового издания «Тихого Дона». Руководящей и направляющей здесь стала речь «главного международного шолоховеда» Андрея Черномырдина, который и
Путин вернул российскому народу чувство собственного достоинства
Путин вернул российскому народу чувство собственного достоинства (интервью Луи Алио, вице-президента партии «Национальный фронт» и гражданского мужа Марин Ле Пен, польскому изданию «Rzeczpospolita», 25 марта 2014 г.)Rzeczpospolita: Кремль обвиняет украинское руководство в фашизме, а
Приступ вежливости / Общество и наука / Культурно выражаясь
Приступ вежливости / Общество и наука / Культурно выражаясь Приступ вежливости / Общество и наука / Культурно выражаясь В недрах МВД подготовлен приказ: отныне полисмены обязаны извиняться перед гражданами за ошибки и недостойное поведение. Идея
О чувстве юмора
О чувстве юмора БИТОЧКИ, ИЛИ «ЧТО НАША ЖИЗНЬ?»Предлагаю две истории: печальные ли, юмористические ли — судите сами. Искренне недоумеваю, что произошло со мной, если столько лет я ни одной строки не написал об этих историях: полная амнезия! Получается так, что вы — мои
Неписаные правила вежливости
Неписаные правила вежливости Французы с пеленок приучаются говорить «спасибо», здороваться при входе в магазин, говорить «мадам» и «месье». Они кажутся холодными и сдержанными, но на самом деле они довольно нервные, часто сердятся и выйти из себя могут за одну секунду.
Чуточку вредных советов
Чуточку вредных советов 12 Май, 2012 at 2:20 PMЕсли вы с утра решилиСвергнуть вдруг режим кровавый.Философию забудьте -Она на хрен не нужна.Погуляйте в центре быстро.Громко крикните — "Убийцы!"И камней бросайте больше -Чтоб устали убирать.И тогда, конечно, сразуКремль весь
Неписаные правила вежливости
Неписаные правила вежливости Французы с пеленок приучаются говорить «спасибо», здороваться при входе в магазин, говорить «мадам» и «месье». Они кажутся холодными и сдержанными, но на самом деле они довольно нервные, часто сердятся и выйти из себя могут за одну секунду.
Солнце светит здесь чуточку ярче
Солнце светит здесь чуточку ярче Солнце светит здесь чуточку ярче ЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. КЛИН Клинское ЛИТО "Творчество" недавно отметило 35-летие. Ныне в него входит сорок человек: поэты, прозаики, барды, исполнители классических романсов и просто
8. О чувстве вины
8. О чувстве вины Бергольо:– Понятие «вина» можно понимать по-разному: как проступок, грех и как психологическое ощущение. Вина во втором смысле не имеет отношения к религии; более того, осмелюсь утверждать, что она даже может заменять собой религиозное чувство,