Не время и не место для шуток
Не время и не место для шуток
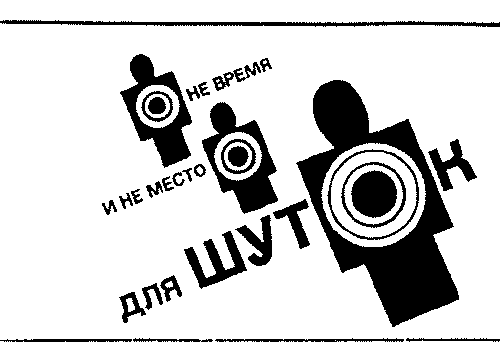
После возвращения из Америки меня расспрашивали о мафии много и с великим пристрастием — о чем бы я ни собрался рассказывать. Вот я и решил эту главу начать с упоминания о таких просьбах, а заодно — и с прикосновения к ответам на них, тем более что проблема преступности сегодня — одна из самых непростых и самых наглядных американских проблем. Говорят о ней президенты и пишут журналисты, не облеченные государственными полномочиями, а внезапная ночная пальба воспринимается чаще всего очень лично — как звуки боя, в котором завтра могут выстрелить и в тебя. А мафия? — она тоже одна из сражающихся сторон…
Разговоры о преступности — даже там, за океаном, — всегда оказывались обсуждением конкретных подробностей чужой жизни; жизни, существующей в ином измерении, со своими нормами, далеко не всегда приемлемыми для нас. Поскольку все мои заметки скорее о состоянии души обыденной Америки, подробностях настроения великой страны, разговор о мафии должен был бы войти в них. Но для начала, мне кажется, надо сказать несколько слов о том, что же такое мафия, привычно локализуемая иными журналистами в Северной Америке. Несколько — в схеме — подробностей.
Возникла мафия на Сицилии еще в XI столетии как общество для защиты бедных, а конкретно — общество по контролю за распределением воды для полива. Очень не скоро — судьба многих политических движений, — но мафия приобрела известную нам репутацию, противоположную той, с которой возникла. (Еще в прошлом столетии мафиозо возглавляли крестьянские восстания и воевали в рядах краснорубашечников Гарибальди.) Со временем мафия стала подпольным государством в государстве. Начало интенсивной эмиграции беднейших итальянцев в Америку совпало и с экспортом мафиозо за океан; какое-то время мафия в Америке побыла даже этакой внутренней полицией, охраняющей итальянских эмигрантов от несправедливости. Но очень скоро мафиозо поняли, что Америка — именно та страна, где они смогут развернуться вовсю, и начали разворачиваться. Мечта о присоединении Сицилии к США бродит в их умах как сладчайшая из легенд; во второй мировой войне мафия в какой-то мере помогла провести высадку американских войск на Сицилии и долго правила кампанией за придание острову статуса 49-го штата. Как вы знаете, ничего из этого не вышло; мафия существует по обе стороны океана, в двух (а может, и больше чем в двух) государствах одновременно. Сейчас уже не то что я, грешный, но сами старожилы Америки не возьмутся извлечь нити, вплетенные мафией в ткань национального коврика. Мафия не раз выказывала присутствие даже в делах великой политики, ввязывалась в общие с ЦРУ операции, — сии тайны для меня (и для абсолютного большинства американцев, итальянцев, пуэрториканцев и прочих) не распахнуты — увы! — настежь. Книгу же о том, как живут люди за океаном, я пытаюсь выстроить вокруг весьма личных впечатлений об этой жизни, добавляя немного статистики, немного высказываний, запомнившихся историй, взятых из вызывающих доверие американских же источников. Понимая, что я пишу не учебник географии или политэкономии, боюсь утратить ваше доверие, переписывая общие места или посчитав, что вы не читаете газет; прежде всего я передумываю вместе с вами все увиденное за океаном, — спасибо, что вы слушаете. А мафиозо я не видел — и не пытался видеть.
Впрочем, можно было, кажется, попытаться. На улице с красивым названием Эль Камино дель Театро в калифорнийском городке Ла Гойя возле мексиканской границы знакомый, живущий неподалеку, показал мне дом в глубине частного парка. «Погляди, — прошептал знакомый, — над воротами стоят две телекамеры внешнего наблюдения, в кустах за оградой установлена сложная сигнализация, монтировали ее очень долго. Иногда к воротам подъезжает закрытый автомобиль, камеры разглядывают его, затем ворота раздвигаются и автомобиль въезжает. Иногда закрытый автомобиль выезжает из усадьбы — тоже сквозь эти ворота, щелкающие, как мышеловка. Говорят, здесь живет один из шефов мафии на Западном побережье». А может быть, это наоборот: кто-то спасается от мафии? Может быть, напутал мой знакомый?.. Короче, людей, которые наверняка что-то знали или явно дружили с мафией, встретить не удалось, посему, когда я буду говорить о законах и внезакониях, не стану валить на мафию все перестрелки, происходящие в Соединенных Штатах.
Убийцы в стране разнообразны, и разные побуждения движут ими. Во всяком случае, среди лиц, убивавших каждого пятого президента США и покушавшихся на каждого третьего, сицилийцев, по имеющимся у меня данным, не было. Кто знает, каковы в своем разнообразии убийцы; мозг Джона Кеннеди, разбрызгавшийся по автомобилю в столице Техаса Далласе, не отмщен до сих пор; двадцать тысяч пятьсот десять человек, убитых в Америке только в прошлом году, — статистическая абстракция…
Абстракция? Если сравнить официальные полицейские статистики в пересчете на сто тысяч населения, то это в три с половиной раза больше, чем в Канаде, в два раза больше, чем в Англии, Франции или Японии, в семь раз больше, чем в Бельгии, в девять раз больше, чем в Дании; даже больше, чем в Гонконге, — в пять раз. Не мое дело заниматься сыщицкими расчетами; убийство одного-единственного человека обескровливает планету, а среди двадцати с половиной тысяч людей наверняка погибли потенциальные великие живописцы, о которых мы никогда не услышим, поэты и летчики, которые уже не состоятся, матери, чьи дети никогда не будут зачаты.
Впрочем, здесь несколько уточнений.
Мафия стала еще одной из разновидностей бизнеса. Оборотный капитал мафиозо достигает сорока восьми миллиардов долларов, чистая их прибыль — двадцать пять миллиардов в год. На одном лишь издании порнографической литературы мафия зарабатывает больше двух миллиардов долларов ежегодно (этот пример годится и для одной из уже прочтенных вами глав — многое заплелось в заокеанской жизни). «Порноприбыли мафии почти таковы, как ежегодный доход крупнейшей корпорации США „Экссон“» (все данные — из недавнего номера журнала «Тайм», одного из солиднейших массовых изданий страны). Так что мафия порождена капитализмом и принята им в систему как одна из главнейших планет. Я не буду анализировать многие приметы и тайны мафии — все равно это будет пересказ чужих сочинений, — просто не могу не сказать, что современная мафия многолика и убийства, творимые ею, — лишь одна из примет.
Но я уже заговорил об убийствах.
Собственно, это глава не о мафии, это глава о смерти.
Статистика всезнающа, но холодна, как железо на морозе. Я не буду вас утомлять ею. Скажу только о смертях насильственных, внезапных, когда один человек прекращает жизнь другого. Одиннадцать из ста тысяч американцев ежегодно кончают жизнь самоубийством; из тех же, кого там убивают другие люди, пятьдесят три процента гибнет от пуль из револьверов и пистолетов, восемнадцать процентов — от ножей; руками убивают девять процентов, из винтовок — пять процентов, обрезов — восемь процентов, другими способами — дубинами, например, — семь процентов. Это вполне официальные данные ФБР, и я не смею в них сомневаться. Каждые двадцать шесть минут в США совершается убийство, — прежде чем вы дочитаете эту главу до конца, кого-то убьют. А Земля не прекратит вращаться, и в мире не убавится смеха, и слова английского поэта Джона Донна, процитированные Хемингуэем в эпиграфе к роману «По ком звонит колокол», не вспомнятся, и колокол не ударит. Привыкли.
Перебирая пленки, отснятые мной в Америке, нашел между ними запечатленную стенку бара в техасском городе Амарилло. На дощатой стене за спиной у толстенькой барменши средних лет белеет прямоугольный плакат, запрещающий посетителям покупать спиртное, если у них есть при себе огнестрельное оружие. Пьяные стреляют чаще, — но почему трезвые вооружены? Почему так легко выстрелить в человека? В Америке больше полутораста миллионов единиц огнестрельного оружия находится в частном пользовании — скоро в Техасе выпить некому будет, — и это в большинстве случаев не разбойничье снаряжение, — оно и не регистрируется, как правило, — основная масса оружия предназначена для самозащиты. Каждый понимает, что лучше всего защищаться самостоятельно, не ждать помощи от соседа, а спастись самому — выстрелить первым; сейчас в моде маленькие, однозарядные револьверы — «спутники на субботний вечер»; второй выстрел, если промажешь, будет уже в тебя. Одиночество рождает не только философию защиты от жизни, оно учит и защите от смерти, оно универсальный учитель.
Есть у Фреда Циннемана фильм под названием «Точно в полдень»; я люблю его, по-моему, это вообще один из лучших вестернов, снятых когда бы то ни было. Во второй половине фильма есть очень характерный диалог на характерном фоне. В маленький городок, где происходит действие, вот-вот ворвется вооруженная банда. Противостоит ей одинокий шериф — каждый из жителей городка вооружен, но каждый нашел причину, чтобы не вмешиваться. Некий старик, сдвинувший шляпу на глаза, мирно отдыхает в кресле-качалке, и мальчик допытывается у него, что же нынче произойдет. Мальчик выспрашивает у старика, служебная ли обязанность борьба со злом. Если б шериф Кейн был не шерифом, просто жил здесь, он вел бы себя как все? Старик молчит. «Что — шериф единственный хороший человек в городке, а все другие плохие?» — не унимается мальчик. Старик молчит. «Ну, скажи мне, — пристает паренек, — откуда берется добро, а откуда зло? С чего начинается ответственность каждого?» Старик приподнимает шляпу с умных выцветших глаз и улыбается: «Такая хорошая погода сегодня. Ты иди. Поиграй с товарищами в хорошего шерифа и бандитов». Снова надвигает шляпу и замолкает.
Шериф, естественно, выиграет схватку: он стреляет лучше, и на его стороне будет удача. Но те, кто победил, и те, кто потерпел поражение, разделены всего-навсего барьером удачи и нашим отношением к ним — не больше. Суд часто существует за пределами привычных моральных категорий, герои обходятся без адвокатов и присяжных, выясняя свои отношения по дуэльному кодексу, а любопытных мальчиков, размышляющих о высоких материях, не всегда удостаивают своевременными ответами. Жизнь и смерть ходят рядом, и человек должен выстрадать собственное отношение к ним, собственные способы утверждения на свете. В этом американцы ссылаются иногда на классику, на то, что величайшие характеры не уповали на суд, а сами его творили. Царь Эдип у Софокла не ожидал ареста, Гамлет не обращался в полицию, а герои Достоевского тоже больше руководствовались голосами души, чем уголовным кодексом. Американская смерть бывает интимной, словно карточный проигрыш, — одна из форм расплаты в игре, ведущейся постоянно. Человек, не умеющий дать сдачи самостоятельно, не многого достигает; насилие всегда было неотделимо от самого понятия власти, а логика американского индивидуализма дает вам право на такую самозащиту, какой требуют обстоятельства. С первых лет этой страны в ней чтили людей, умеющих постоять за себя и свести счеты; бандиты всегда образовывали особый мир, противопоставленный большинству и преодолимый прежде всего силой оружия, а не толстыми кодексами. До сих пор видовые альбомы штатов переполнены фотографиями усатых шерифов, стрелявших в прошлом столетии лучше всех и лицом к лицу побеждавших целые банды. В Калифорнии, скажем, сто лет назад за выстрел сзади вешали без суда, в чью бы спину, в чей бы затылок он ни был направлен. Убитых выстрелом в грудь закапывали без следствия: он видел нападавшего, но не успел защититься — погиб в честной стычке. В середине прошлого века в Калифорнии разгулялись преступники, прибывшие из Австралии, они подличали, стреляли из-за угла, грабили по ночам, нападая на отдаленные поселения. Золотоискатели не приглашали регулярную армию для защиты, они создали на время Комитет бдительности, куда вошли лучшие из стрелков, изловили и тут же повесили на субтропических деревьях девяносто одного австралийца вместе с их главарем Джимом Стюартом. Вот уже больше ста лет бытуют предания о быстроте, с которой на Дальнем Западе умели выхватывать и разряжать шестизарядный револьвер Кольта. Я храню туристские проспекты сегодняшнего штата Аризона, где рассказ о легендарном кольте вынесен в особую главу — похвала орудию, выделившему лучших, ловчайших, умелейших; так дарвинисты пишут о первой палке, ставшей орудием труда и сотворившей человека из обезьяны.
Законы и отношение к ним изменялись в США за истекшее столетие, совершенствуясь неустанно, но социальные основы не изменились. Человеческое сознание, привычка к мышлению установленными категориями куда более консервативны, чем продукция оружейных заводов. Помните, я рассказывал о стотрехлетней старушке, ограбленной юнцами на перекрестке в Нью-Йорке. «Ах, я бы их застрелила…» — вздохнула бабуся, у которой забрали два доллара мелочью. Она не желала признать, что оказалась слабее ретивых школьников; дело не в двух долларах, а в беззащитности, которая всегда предвестник конца. И сегодня в большинстве штатов право на самозащиту и на охрану своей собственности разрешает стрелять в человека, вошедшего в твой дом без приглашения. Время от времени газеты пишут о безутешной жене, прихлопнувшей супруга, явившегося среди ночи из бара и мычавшего в ответ на ее предупреждения. Иногда убивают почтальонов; все это казусы, но вытекающие из образа мышления и бытия; человек, в жизни, смерти и правосудии положившийся на себя самого, — самостоятельный до одиночества… Все это не ковбойские самосуды, такие справедливые и красивые в вестернах.
Когда я был в Техасе, газеты писали, что на одной из тамошних ферм двадцатичетырехлетний Вернон Джонсон выстрелом в сердце убил своего четырнадцатилетнего брата Роджера — ребята сидели дома с винтовкой и револьвером.
Актриса Софи Лорен сказала в интервью, что всегда носит пистолет в сумочке, а ее муж, продюсер Карло Понти, — два: один в пиджаке, а другой в специальной кобуре под коленом, — супруги, думаю, вооружились не оттого, что начитались газет, просто их уже грабили, и они тоже готовы к самозащите.
Полиция, конечно, существует и действует, но она как бы сама по себе. Именно поэтому мне запомнилась история, поведанная как-то видным американским журналистом, лауреатом Пулитцеровской премии Годдингом Картером, издателем большой газеты на юге США. Сын Картера написал и опубликовал статью, порицающую ку-клукс-клан; парню тут же позвонили и пригрозили прикончить. Тогда Годдинг Картер купил револьвер 38-го калибра и набрал номер одного из местных руководителей клана: «Если хоть волосок упадет с головы моего сына, можешь считать себя покойником», — и провернул барабан легендарного кольта перед телефонной трубкой. Местный шериф, стоявший рядом со взволнованным Картером, взял трубку и добавил в нее, что если журналист промажет, то уж он из своей полицейской пушки наверняка попадет в живот.
Все защищаются либо пытаются защищаться. Тема мстителя — одна из самых традиционных в американских фильмах и книгах. Человек вершит свою собственную справедливость, сам стремится сохранить свою жизнь и все прочее, что считает принадлежащим себе, — индивидуализм так индивидуализм.
Американцы зовут это по привычке «традицией переселенцев», «особенностями границы», дети в четыре года получают в подарок игрушечный пистолетик, в двенадцать учатся стрелять из пневматического ружья, а чуть позже приобретают мелкокалиберный револьвер (примерно такой, как тот, из которого Сирхан 4 июня 1968 года застрелил Роберта Кеннеди). Дорожные знаки часто продырявлены — в газетах время от времени пишут об этом, призывая автомобилистов подыскать себе другую забаву и не палить из машин на полном ходу.
Я рассуждаю здесь о теневой стороне заокеанского быта, которая очень неприятна и беспокойна абсолютному большинству американцев. Глупо и бессмысленно сводить отношения внутри любого общества к простенькой схеме, но так или иначе там, где хоть однажды поощрялась трусость, трусы разрастались, словно плесень в сыром углу; поощренный жулик становился родоначальником целой коалиции жуликов; если одобрялся донос, тотчас находилось достаточно доносчиков, кричавших о своей правоте; насилие, одобренное однажды, становилось многократным и труднопреодолимым. Старый американский философ Торо сравнивал этот процесс с трением, нарастающим в механизме и угрожающим его существу.
Герои становились в передний, витринный ряд, но подонки тянулись следом, утрируя поступки людей достойных, — так тени, отброшенные человеческими фигурами, утрируют подчас их движения. Капиталистическая власть приросла к предпринимательству, стала неотделима от него; механика власти в преступном мире пародийно повторяет государственную организацию. За последние годы в Соединенных Штатах одними из самых кассовых оказались два двухсерийных фильма Фрейсиса Копполы «Крестный отец»; там очень серьезно исследуется вопрос о природе преступного мира и одновременно — как неотъемлемый от него — о философии власти. Насилие как образ жизни мафиозо четко определяет отношения внутри их сообщества; зло неизбежно, а самый сильный живет лучше всех. Хорошо быть самым сильным…
Это сложная и неприятная тема. Когда-то в королевской Испании религиозный фанатизм сросся с доносительством — соединение фигуры с тенью породило инквизицию. Соединение национального фанатизма с философией исключительности и силы — тоже фигуры с тенью — не так давно укрепляло фашизм и нацизм в Италии и Германии. Страна должна опасаться того, чтобы в плоть и кровь ей не вросли все государственные отходы, — человеческий организм погибает, если его естественные фильтры отказывают и оставляют в крови все шлаки. Я видел в США людей, борющихся за достоинство своей страны и за собственное достоинство, — их немало. Но народ постоянно расплачивается по старым и по новым счетам, — современные Соединенные Штаты похожи на ребенка, о котором я читал и слышал в Нью-Йорке. Трехкилограммовая девочка родилась в Бруклине с огнестрельной раной — пуля нашла ее в материнской утробе: стреляли в живот беременной женщине. Соединенные Штаты тоже были ранены еще при рождении.
А если оставить в покое метафоры, это очень гнусно — выстрел в живот беременной женщине. Причем пули ранят не только тех, кого они задевают непосредственно. Детройтские дети наверняка долго будут помнить историю, о которой я узнал из утренней газеты в симпатичном городке Талса. Утро было как утро и сообщение как сообщение, я обратил на него внимание потому, что рядом была фотография красивой женщины — мисс Бетти Маккастер. А вот что произошло с ней — дословно перевожу здесь начало заметки: «Детройт. У семилетней Лауры Донолли и тридцати пяти других детей только что начался урок английского языка в первом классе. Вела урок их постоянная учительница, сорокашестилетняя мисс Бетти Маккастер. В класс зашел незнакомый человек, вынул из кармана револьвер и что-то сказал учительнице. „Мисс Маккастер плакала и закрывалась руками, — сообщили дети в один голос, — но тот мужчина начал стрелять…“» Здесь же фотография убитой учительницы.
Путешествуя, я старался привыкнуть к мысли о том, что убийство может быть обыденным, но не мог привыкнуть; американцы тоже не привыкают, всякий раз возмущаясь заново, всякий раз требуя сурового наказания для преступников. Я хочу вам сейчас рассказать о том, как однажды наказывали подонка. Это был самый невезучий подонок за последние десять лет, и я вам постараюсь изложить почему. Наверное, о Гэри Марке Гилморе вскоре можно будет узнать поподробнее: объявлено, что его адвокат Деннис Боаз заканчивает книгу о своем подзащитном, а кинопродюсер Дейвид Сасскайнд прилетел в штат Юта для подписания договора на фильм; следом за ним вылетел другой продюсер, тоже вознамерившийся снимать фильм о Гилморе. Я впервые узнал обо всем этом, проезжая по штату Юта, и решил проследить историю до конца, чтобы рассказать о ней вам. Американская страсть к подробностям и желание знать обо всем немедля вышвырнули портреты долголицего блондина Гилмора на первые полосы солидных газет; об астронавтах и великих изобретателях сроду не писали так много, как об этом подонке. Еще бы, Гилмор оказался первым за десять лет человеком, которому реально угрожала смертная казнь — со 2 июня 1967 года (штат Колорадо, газовая камера) в США никого не казнили. Сидит Сирхан, убивший Роберта Кеннеди, сидит Рей, застреливший Мартина Лютера Кинга, сидят более четырехсот изощренных убийц, приговоренных к смерти, но вот уже десять лет приговоры в исполнение не приводятся. В стране, где стреляют очень много, «внезаконные стрелки» имеют множество оснований для кассаций и проволочек. Я рассказывал, как шериф на Юге пригрозил просто всадить потенциальному убийце пулю в желудок, — уж он-то знал, как быстрее добиться торжества справедливости. Но Гэри Гилмор попался в штате Юта, где самую уважаемую часть населения составляют колонизовавшие эту землю мормоны — религиозные сектанты, угрюмо ожидающие конца света. Гилмора немедленно приговорили к смертной казни, и вдруг всей Америке стало ясно, что впервые за последнее десятилетие преступника таки прикончат — именем закона. И все заинтересовались… Движение за отмену смертной казни, очень сильное в США, тоже не очень заступалось за убийцу, слишком уж было все ясно.
…Если продюсеры будут снимать фильм о Гилморе, то это, думаю, должен быть телевизионный фильм — с крупными планами и действием, происходящим в закрытых помещениях ограниченной площади, ведь из тридцати пяти лет своей жизни восемнадцать Гилмор провел в тюремных камерах.
…Выпущенному из каталажки в очередной раз Гэри Марку понадобились деньги. Поскольку способ их заработка был выяснен Гилмором раз и навсегда, он зашел в мотель маленького городишка Прово и предъявил свой револьвер тамошнему клерку, двадцатипятилетнему Бенни Бушнеллу. Бушнелл был женат, у него рос годовалый сын, и жена ожидала еще одного ребенка. Парень хотел учиться в университете, но денег не было, и он устроился на работу, чтобы кое-как продержаться до рождения нового наследника; так что особого сопротивления гостиничный клерк и не думал оказывать. Гилмор выпотрошил мотельную кассу (было в ней сто двадцать долларов); дальше он объяснял свое поведение так: «Я приставил револьвер к виску Бушнелла и сказал, чтобы парень лег на пол у своей стойки. Он замешкался, и я дважды выстрелил ему в голову».
На Гилморе висело еще одно не твердо доказанное убийство — на бензоколонке в Ореме, совершенное за сутки до этого. Короче говоря, Гэри Марка приговорили к смертной казни, и присяжные не дрогнули, приняв решение единогласно. Но с этого момента все только лишь началось, ибо вступил в свои права кощунственный процесс превращения смерти в театральное зрелище.
Американская смерть бывает необычна, тем более что на территории этой страны всегда умели славно стрелять, укрощать скакунов, принимать быстрые решения и красивые законы. Когда Томас Джефферсон писал знаменитую Декларацию независимости, он первым пунктом внес туда право на жизнь, и так вошла она в историю. Но по правилу «фигуры и тени» уродливая тень права на смерть тянется за красивым тезисом Декларации, и в деле Гилмора можно было все это наблюдать.
Вначале произошли легкие стычки: губернатор Юты Келвин Ремптон отложил исполнение приговора до рассмотрения апелляций, а председателем апелляционного жюри штата был Джордж Латимер, недавно выступавший защитником на процессе лейтенанта Уильяма Колли, военного преступника, палача вьетнамской деревеньки Сонгми. Но сам Гэри Марк Гилмор устал, видимо, от своей славы, проиграл и ставил точку. Он сказал, что не будет подавать никаких апелляций, и просит, чтобы его казнили; умереть он, по его же словам, должен «как человек» и посему хочет, чтобы его расстреляли, и просит выдать ему перед казнью шесть жестяных банок знаменитого колорадского пива «Курс».
Теперь изложу вам только факты, потому что в дальнейшем оказалось, что Гилмору не так легко умереть. Приученные к театрализации смертей, многие американцы начали готовиться к необычному представлению, а это требовало времени. Гилмор тоже входил во вкус. Он сказал, что еще бы напоследок хотел жениться — благо невеста сыскалась, двадцатилетняя девица с двумя детьми неведомого происхождения, прежде ему незнакомая, но, несомненно, достойная. Поскольку бракосочетание задерживалось, невеста и жених успели еще демонстративно отравиться снотворным — не до смерти, впрочем, но так, что их надо было откачивать, и даже солидная «Нью-Йорк таймс» напечатала портреты и подробности страданий несостоявшейся четы. Где-то готовилась рожать юная вдова пристреленного Гилмором клерка, о ней никто не заикался; туристы ходили на экскурсии в мотель Прово и слушали репортажи из тюрьмы, идущие среди самых важных последних известий. Шоу разворачивалось вовсю.
В городке Салина штата Юта я спросил у продавца газет, что он думает о событии. «О, это будет грандиозно, — сказал немолодой мужчина и пощелкал языком. — Вы поедете в Солт-Лейк-Сити? Я бы съездил…»
Гилмор сидел в главной тюрьме штата, в двадцати милях к югу от Солт-Лейк-Сити, и расстрела ожидали со дня на день. В газетах писали, что Гэри Марку предстоит быть тридцать девятым расстрелянным в штате; его посадят на деревянное полукресло с высокой спинкой и подлокотниками, привяжут за шею, руки и ноги, а к груди приколют большое алое карточное сердце. Если раньше расстреливали на дороге возле тюрьмы, то сейчас приводят в порядок специальную площадь в пятьсот гектаров: как же — такой случай…
Семюэль Смит, старший охранник тюрьмы штата, сказал, что едва была объявлена запись в добровольческий отряд расстреливающих, сразу же предложило свои услуги около трех десятков людей, а нужно всего пятеро, одно ружье из пяти не зарядят, чтобы никого потом совесть не мучила. Каждый из участников расстрела получит за труд сто семьдесят пять долларов и сможет купить себе хороший штуцер индивидуальной работы, бьющий без промаха на приличное расстояние.
Довольно, наверное, об этом. Скажу только, что срок казни откладывали со дня на день еще в течение двух месяцев и только в начале 1977 года Гилмора, наконец, пустили в расход. На газетной бумаге, где была описана его никчемная жизнь, можно бы издать множество книг с популярным изложением уголовного кодекса всех штатов США. Или еще чего-нибудь. А впрочем, американцы живут, умирают, пользуются газетной бумагой и всем остальным по своему обыкновению и усмотрению; я все время пытаюсь рассказать вам именно об этом, а еще больше хочу, чтобы вы сами поразмышляли о чужих жизни и смерти.
Заступаясь за Гилмора, писали даже, что он, мол, хотел умереть и его история — просто род самоубийства, хоть я не могу понять в таком случае, почему же он выстрелил в висок не себе, а мотельному клерку. Не всякая смерть на миру красна, а самоубийства в Штатах — особая статья, их изучают и классифицируют особо.
Достаточно порассуждав о чужой жизни, я пишу в этой главе о чужой смерти, изучаемой в Америке серьезно, подробно и даже, я сказал бы, с любопытством. Общество, не скрывающее своего индивидуализма, пытается понять себя, много размышляет и пишет о человеческой гибели как последнем из одиночеств, о самоубийстве как добровольном уходе в уединение.
Считается, что по крайней мере тысяч пятьдесят пять — шестьдесят американцев ежегодно кончают самоубийством, но доказано и юридически оформлено бывает одно лишь самоубийство из двух. Считается, например, что каждая шестая автомобильная катастрофа — сознательное самоуничтожение водителя. Ежегодно в Америке тысяч двести людей явно или тайно пытаются совершить самоубийство, а восьмистам тысячам очень деловая мысль о самоубийстве хоть раз в год, а приходит в голову. В хорошо изученном обществе — а Соединенные Штаты именно таковы — все прогнозируется. К примеру, считают, что в 1977 году семьдесят — восемьдесят тысяч молодых людей (семнадцати — двадцати четырех лет) попытаются покончить с собой и четырем тысячам из них это удастся. Пятнадцать тысяч студентов совершают за год попытки самоубийства, среди молодежи это вообще вторая по частоте из причин смертности.
В жизни, о которой пишу я, человек постоянно делает огромную ставку — на все. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Здесь получают сразу все или стреляются — половинчатые жизни, половинчатые удачи, невыразительные люди никогда не бывали в моде в Америке. Ты сам за себя, и будь добр, человече, привыкай к правилам игры, в которую вошел. Да, в течение одной жизни здесь успевали проделывать миллионерские и президентские карьеры от нуля, но куда чаще проделывают здесь и антикарьеры — к нулю, похожему на револьверный ствол в поперечном сечении. Америка жестока и мускулиста; люди, преуспевшие в жизни, далеко не всегда склонны жалеть неудачников, это вроде как футболисты основного состава не жалеют запасных игроков. Здесь надо глядеть, чтобы у самого нога не подвернулась и не оказался вне поля; игра жестока, но призы достаются только участвующим в ней. Жизнь, смерть — части грандиозного спектакля, поставленного вовсе не для расслабленных любителей.
Смерть бывает и метафорической — это тоже в порядке вещей; я вам расскажу еще об одном художнике.
Густав Корн достаточно известен в Чикаго, он приехал в Штаты после войны, оставив Венгрию, Будапешт, где учился живописи и где пытался стать художником, достойным выставок в крупных картинных галереях. Пейзажи, которые рисовал Корн, не раскупали. И тогда эмигрант, приняв приглашение чикагских колбасников, начал работать для них. «Директор колбасной фирмы увидел мои пейзажи, пригласил меня и предложил нарисовать сосиску, — говорит Корн. — Я рисовал сосиски с горчицей и с кетчупом, сосиски с луком на тарелке и на лепешке. Поверьте, что нет двух одинаковых сосисок, как нет двух одинаковых пейзажей. Во мне умер живописец, но я великолепно зарабатываю, рисую сосиски для кафетериев семи штатов».
В поисках своего места на свете и самих себя люди проходят сквозь рождения и сквозь гибели, стряхивая с плеч многие вчерашние драгоценности, за которые никто сегодня не платит; иногда можно стряхнуть с себя бриллиант и поднять картофелину, но кто, скажите, был сыт бриллиантами? Таковы правила чужой жизни — необходимость постоять за себя и ежеминутно быть готовым к потасовке или к горячим объятиям, — никогда не ведаешь, к чему именно, — они, эти правила воспитывают людей сентиментальных и жестких, добрых и немилосердных одновременно.
Это очень серьезная страна.
В аэропорту Атланты, на глубоком американском Юге, меня задержал полисмен. Я уже десять раз проходил сквозь арку, определяющую металлические предметы в моих карманах, а дверь гудела и гудела, наводя полисмена на мысль о пулемете, затаенном в недрах моей одежды. Наконец полицейский не выдержал и, сноровисто ощупав меня, сразу же обнаружил охотничий нож со штопором, который я уже так давно и неизменно вожу с собой, что привык к нему и забыл вынуть из кармана плаща.
«Что это?» — спросил полисмен, угрюмо глядя на нож.
«Нож», — игриво ответил я, не чувствуя потребности в оправданиях.
«Зачем?» — спросил полисмен уже очень серьезно.
«А я, знаете, люблю выпить в полете с экипажем. Здесь есть штопор, и он…»
Не дослушав меня, полисмен отложил нож в сторону.
«Не время и не место для шуток, — сказал мне усталый человек с револьвером в расстегнутой кобуре. — Вчера угнали самолет, и, поверьте, здесь совсем не сладко дежурится. У кого-то бизнес — угонять самолеты, а у меня — мешать тому, чтобы угоняли…»
Я виновато взглянул на полисмена, потому что прав был он, а не я.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
МЕСТО, ГДЕ РАЗРУШАЕТСЯ ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ
МЕСТО, ГДЕ РАЗРУШАЕТСЯ ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ Во всей науке нет объекта более таинственного, чем черные дыры. Все вопросы, связанные с ними, – это вопросы, затрагивающие Вселенную в целом. Научным фактом является то, что 0,1 % массы нашей Галактики сосредоточена именно в
Время и место
Время и место Многажды процитированные слова Столыпина о великих потрясениях и великой России представляют собой классический образец ложного рассуждения. Великие государства, великие нации, да и великие исторические деятели появляются только в ходе великих
Место и время
Место и время Мало кто из писателей XX века так повлиял на читающее общество. Вероятно, никто: немыслимо жить по Джойсу, Платонову, Прусту, Фолкнеру. По Кафке, наверное, возможно, но уж очень страшно. А Хемингуэй давал внятные рецепты жизни на всех уровнях — от философских
ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ И ВРЕМЯ КАМНЯМИ УБИВАТЬ. «Сказка о Тройке»
ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ И ВРЕМЯ КАМНЯМИ УБИВАТЬ. «Сказка о Тройке» Как известно, очень тяжело читать книгу (смотреть фильм, слушать постановку), где действуют люди, заведомо более глупые, чем читатель (зритель, слушатель). И уж вовсе невозможно всерьез воспринимать
3. Мыс Фиолент, где какое-то время жила «античная» Ифигения, — знаменитое место
3. Мыс Фиолент, где какое-то время жила «античная» Ифигения, — знаменитое место Что такое мыс Фиолент в Южном Крыму? Оказывается, мы натолкнулись на действительно знаменитое место, рис. 5.10. Евгений Марков в XIX веке писал: Рис. 5.10. Мыс Фиолент в Крыму. Взято из
16. Итак: мыс Фиолент — место рождения Христа, гора Бейкос — место его распятия, Чуфут-Кале — место смерти и погребения Марии Богородицы
16. Итак: мыс Фиолент — место рождения Христа, гора Бейкос — место его распятия, Чуфут-Кале — место смерти и погребения Марии Богородицы Подведем итог. Нам удалось обнаружить три географических пункта, где произошли исключительно важные события древней истории XII века.
Время и место Юрия Трифонова
Время и место Юрия Трифонова В декабрьском номере «Нового мира» за 1969 год была напечатана повесть Юрия Трифонова «Обмен». Это был не просто блестящий литературный текст, но и важнейший идейный рубеж. Трифонов обозначил собою – точнее, последним периодом своего
«Им не место на партах – им место в постели…»
«Им не место на партах – им место в постели…» Еще один бастион на пути нового общества – школа и образование вообще. Молодежь не должна интеллектуально обучаться, а классическое образование вредит активистам национал-большевиков. Это Лимонов с особой настойчивостью
Максим Семеляк Время и место
Максим Семеляк Время и место Беспредельный быт университетского общежития в начале девяностых Если меня когда-нибудь попросят заполнить графу с условным названием «мои университеты», я внесу туда помимо полагающейся мне по рангу аббревиатуры МГУ еще и три заглавных
Время и место Розы Сябитовой
Время и место Розы Сябитовой Нечеловеческая жара отменила традиционное деление общества на правых и левых, либералов и консерваторов, охранителей и оппозиционеров, прочертив демаркационную линию между теми, у кого есть кондиционеры, и теми, у кого их нет. Эти две России
ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ И ВРЕМЯ КАМНЯМИ УБИВАТЬ. «Сказка о Тройке»
ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ И ВРЕМЯ КАМНЯМИ УБИВАТЬ. «Сказка о Тройке» Как известно, очень тяжело читать книгу (смотреть фильм, слушать постановку), где действуют люди, заведомо более глупые, чем читатель (зритель, слушатель). И уж вовсе невозможно всерьез воспринимать
Сакральное время и место
Сакральное время и место «Все сакральное пространство, несколько смещенное по сравнению с тем как оно есть в реальности, символически мыслится как точка отсчета, „центр мира“, который организует пространство и наделяет его смыслом»96. Как сакральное время обладает