Кубатура яйца
Кубатура яйца
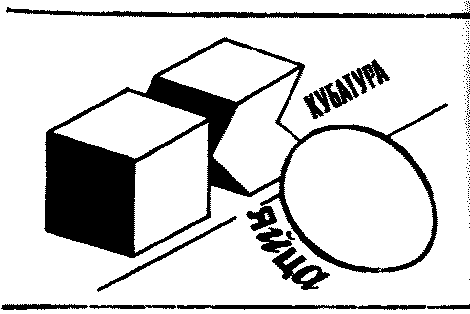
Только кажется, что все это очень просто. Попадая за границу надолго, один, я прохожу сквозь все те же испытания, к которым очень медленно привыкаю, да и то — не ко всем. Во-первых, мне бывает скучно без тех, кому я дома привык читать все написанное и говорить все, что думаю. Собственно, говорить то, что думаешь, надо по возможности всем, но есть много мыслей и слов, которыми хочется делиться с людьми самыми близкими, а таких никогда не бывает в избытке. Сходил в кино, прочел книгу, увидел картину в музее — с кем перекинуться словом? Во-вторых, неизбежное время уходит на отбор новых знакомых, старые, если они даже были, не сразу собираются вокруг. В-третьих, сам ритм и правила чужой жизни, устоявшиеся и хорошо усвоенные всеми вокруг, доходят до тебя не все одновременно — надо привыкать и к ним. Поэтому, например, первая из встреч, о которых я здесь рассказываю, могла бы и не вспомниться, случись она в конце путешествия, но произошла в начале и стала зацепкой, одной из тех, что помогут мне ввести вас в жизнь страны и людей.
Начинать всегда следует «ab ovo» — «от яйца», как говаривали древние римляне.
Представьте себе солнечный и очень красивый день в университетском городке Лоуренсе штата Канзас. И «Субмарине», забегаловке, прижатой на раздорожье к газону, я ожидаю заказанную яичницу и разглядываю своего собеседника Кейвина Ваверса, веснушчатого рыжего малого в очках, с толстой папкой, из которой торчат глянцевые цветные фотоснимки.
В «Субмарине» мне нравится, но я обозвал ее забегаловкой, потому что не люблю здешних официанток: они не дают засиживаться и надоедливо спрашивают у посетителя, чего ему подать еще, пока тот не сделает новый заказ или не уйдет восвояси. Иначе в «Субмарине» можно было бы писать стихи и я назвал бы ее французским словом «кафе» или в крайнем случае другим французским словом — «бистро». Но единственно, что вправду было в «Субмарине» французским, так это старый граммофон с наклейкой «Патэ», разинувший коричневую трубу в сторону улицы. Граммофон не играл, и его держали для декорации. Еще для декорации здесь держали несколько афиш старых голливудских фильмов с очень соблазнительной Тедой Барой, одетой в несколько не очень широких ленточек, согласно жестким требованиям киноцензуры тех лет. Ленточки вовсе не скрывали того, что им надлежало скрыть, и оживляли атмосферу «Субмарины» с ее деловыми официантками.
Мы очень медленно пережевывали сэндвичи с индюшатиной, переложенные изумрудными стеблями неведомых мне трав, и ждали заказанных нами яичниц. Среднестатистический американец съедает двести восемьдесят семь яиц в год — это официально объявленный подсчет, — наш заказ был во всех отношениях вполне традиционен.
…Мне давно уже кажется, что Америка просыпается о утрам от хруста яичных скорлупок. Хруст этот по нарастающей катится от Нью-Йорка до Калифорнии, вслед за солнцем, а само солнце похоже на желток яйца, выплеснутого на сковороду. Американцы едят на завтрак просто яичницу, яичницу с беконом и яичницу с ветчиной; они поедают омлеты, яйца всмятку и маленькие бифштексы с желтками. Хорошо еще, что дело ограничивается куриными, реже перепелиными — для любителей экзотики — черепашьими яйцами, окажись яйца белоголового орла съедобными, я уверен, что всех их зажарили бы тоже, и державная птица с национального герба уцелела бы только на банкнотах и генеральских фуражках. А так — мы с Кейвином Ваверсом ожидали заказанную яичницу, собирая по тарелке бутербродные крошки, неспешно беседуя на множество тем сразу. Поскольку дело происходило в центре университетского городка, то мимо «Субмарины» с аэродромным ревом пролетали мотоциклы с гордо восседающими на них очкастыми существами обоего пола, одетыми в каски всех армий и всех строительных организаций мира. На одном мотоциклисте был даже водолазный шлем, но Кейвин проводил его довольно безразличным взглядом, поскольку внутри шлема скрывалась голова сокурсника, парня, по мнению Ваверса, заурядного во всех отношениях, а значит, неинтересного. Быть заурядностью — непопулярно, особенно в Америке.
Одной из особенностей любого американца и сегодня остается настойчивое желание угадать цыпленка в яйце, рассчитать человеческую жизнь на два-три хода вперед, осмыслить ее в деловой перспективе, понять, кем завтра может оказаться твой сегодняшний собеседник, сослуживец или сокурсник. Культ личной инициативы остается незыблемым, как религиозная догма, и «селф мейд мен» — «человек, сотворивший себя», позаботившийся о себе сам, — официальный идеал; даже на званых ужинах хозяин любезно рекомендует гостям «хелп йорселф» — «помогайте сами себе». Принципы принципами, но в поисках способов их реализации американцы неутомимы. Мой двадцатитрехлетний собеседник тоже; он «хелпс химселф» — помогает себе. Студент как студент, биография как биография, сейчас очень много таких.
Кейвин Ваверс учится на четвертом курсе факультета журналистики Канзасского университета; специализируется в фотожурналистике. Сейчас его проблемы весьма конкретны и далеко не в первую очередь связаны с общетеоретическими вопросами. Кейвину надо выбиться в люди. По этой причине он деловит и не по-юношески сосредоточен, — надо сказать, что восторженный инфантилизм американским студентам не свойствен, особенно сейчас. При всех внешних наслоениях, при всех касках на головах и нагрудных алюминиевых гирляндах, вросших в моду, студенты великолепно умеют рассчитывать и считать. В жизни человеку надо выбиться так же, как цыпленку надо пробиться, проклюнуться из яйца. Выход в свет связан с точным расчетом; законами бытия надо овладевать смолоду, чем раньше, тем лучше.
Мой собеседник ежегодно платит за два университетских семестра около шестисот долларов, это за лекции, библиотеку, семинары. Все фотооборудование надо купить самому — у Кейвина два аппарата: узкопленочный «найкон» и «яшика», оба японские, со сменной оптикой, каждый обошелся примерно в тысячу. Жить можно в общежитии; комната с удобствами на двоих стоит сто пятьдесят долларов в месяц. Кейвин устроился лучше. Он с двумя друзьями — Чарли и Рэдом, симпатичными бородатыми фотожурналистами, арендует четырехкомнатный домик. В подвале ребята оборудовали фотолабораторию и работают в ней посменно; аренда домика обходится им по сто долларов в месяц с каждого. Еще пятьдесят долларов в год приходится платить за учебники. Итого весь университетский курс — пять лет — обойдется Кейвину тысяч в двадцать. Я нарочно привел здесь эту калькуляцию, потому что студент четвертого курса, юный и веснушчатый Ваверс, очень точно знает, сколько и за что он платит и сколько и за что в будущем станут платить ему. После окончания университета его никто не направит на работу, а если бы и направляли, то никто не взял бы в газету неизвестного фотокора, — в жизни американца, как я уже говорил, очень ценится умение приобрести деловой авторитет, пробиться, протолпиться, проклюнуться совершенно самостоятельно. Это — правило игры. Родители Кейвина небогато живут в соседнем штате Миссури; отец — социолог, мать подрабатывает уроками рисования, а единственный брат служит в армии, так что помощи ждать неоткуда. Все в его роду пробивались, как могли, пробьется и он. Легко ли? Трудно. Но трудно было и другим; когда цыпленок ищет выход из яйца, никто не надкалывает ему скорлупу серебряной ложечкой. Ложечку надо добыть самому (о самых везучих говорят: «Он родился с серебряной ложкой во рту»).
Когда в соседнем Канзас-сити происходил съезд республиканской партии, Кейвин мгновенно сориентировался, уехал туда, отказавшись на неделю от наперед оплаченных университетских занятий, и фотографировал, фотографировал. «Я профессионал, — говорит он, — и наверняка знаю, что иные лица, маячившие в кулуарах съезда, могут вскоре возникнуть в самых разных правительственных сочетаниях». Тогда-то он снимочки и продаст. Кроме того, у своих соседей по домику Кейвин учится мастерству съемки не репортажной, а художественно-прикладной, — Чарли и Рэд уже получили первые контракты в рекламных агентствах и неутомимо ищут новые ракурсы для модельерш, рекламирующих джинсы, предлагаемые здешним универмагом фирмы «Левайз».
…Я поглядел однажды, как ребята трудились. Очевидно, снимки будут слегка фривольны — так было заказано, — но в процессе съемки не было и намека на игривость: студенты работали. Они работали на фирму «Левайз» и на себя — вспотевшие под яркими софитами, утомившие модельерш, университетских же студенток (фирма заплатит и им). Одна стена в подвале, превращенном в фотостудию, была затянута черным велюром, другая — сияюще белым пластиком. На пол летели подушки из лоскутьев, ковбойские седла, взятые напрокат, трехгаллоновые стетсоновские шляпы, из которых давно уже не поят ковбойских рысаков. Все это срасталось в снимках — я взглянул в видоискатель резервной фотокамеры, — девушки улыбались, ставя остроносые сапожки на музейные седла, ребята падали на пол, взбирались по стремянке под потолок; шла работа, цыпленок проклевывался сквозь скорлупу, желтоватую, как стетсоновская шляпа из светлой замши.
Ах, как вы поскучнели, американские ребята, за последние годы! Даже не «поскучнели» — слово не то, а втянули головы в плечи. Я помню еще шумную пацифистскую заваруху шестидесятых годов: в университете штата Висконсин студенты втыкали цветочки в ружья национальным гвардейцам, а фотографы дрались телеобъективами на цепочках; в университете Кент убили четырех демонстрантов — это стало всеамериканским трауром для думающих и порядочных людей.
С правящей Америкой нельзя враждовать вполсилы — она скушала своих задумчивых бунтарей и своих волосатых бунтариков, пытавшихся совершить маленькие, частные революции, которых не бывает. Развелось множество студентов, не похожих на прежних, — их поддерживали и разводили, — подстриженных, бритых, чистящих зубы по утрам и не имеющих недозволенных мыслей, — деловых маленьких людей с большими планами. Интересно, что когда последний отряд канзасских хиппи, словно недобитое индейское племя, звеня ожерельями, ворвался прошлой осенью в зал съезда республиканской партии, Ваверс очень удивился: он не ощущал этих ребят, не видел их прежде, — рассказывал мне о них с удивлением, — о плакатах, на которых было что-то написано; Кейвин не помнит, что именно: не прочел…
Позже, дома уже, я припомнил, что неотвязная мысль о человеческом одиночестве, мысль, не отпускавшая меня во время всей поездки, пришла именно в Лоуренсе, затолпленном студентами городке.
Кейвин жил сам по себе. Планы его были предметны, обстоятельны и по-своему интересны, но был он сам по себе, и это не могло не бросаться в глаза. Мир вокруг сжался до немыслимых пределов — газеты, радио, телевидение засыпали обвалами информации, — но Кейвин был одинок, как первый из Колумбовых матросов, ступивших на американский берег. И не только он.
Все это было особенно удивительно, потому что происходило в стране, соединенной со множеством других государств и людей, в Америке, связанной с десятками стран-партнеров и стран-жертв, в Америке, где люди передвигались безостановочно, словно ртуть по картонке. И тем не менее.
Еще несколько десятилетий — не столетий — назад новости распространялись со скоростью всадника, — известия из Парижа, Петербурга или даже из Калифорнии шли до Канзаса год, если не дольше; все было где-то «за лесами, за горами, за широкими морями». Белл, Эдисон, Попов, Маркони и другие умные люди стянули мир путами проволочных и беспроволочных линий — уменьшили его до размеров горошины. Но расстояния между людьми зачастую оставались вне зависимости от возможностей телефона и телевизора. Несмотря на то, что газеты объясняли — каждая по-своему, — какие именно проблемы актуальны сегодня, формировали тревоги повседневности, люди далеко не во все времена смыкали свои заботы. В Америке это особенно ощутимо: даже общественные течения зачастую вспыхивали здесь, как моды, затрагивая лишь строго определенный круг, и затем слабели, так и не став общенациональными. Я подумал о том, что одинокий человек, одинокая страна — понятия философские, актуальные и трагичные. Америка не умеет быть сама по себе и не хочет быть, а многие ее подданные хотят и умеют. Это другая, чем у нас, социальная система, иное общественное измерение; когда я начал говорить с Ваверсом об этом, парень удивленно взглянул на меня, не понимая встревоженности вопроса.
«Кенгуру прыгает, — сказал он. — Антилопа бегает, сорока летает, рыба плавает. Каждый передвигается, как ему лучше». — «Но ведь они взаимозависимы. Даже в невиннейших антарктических пингвинах находят стронций-90, долетевший до них с неведомо где случившихся ядерных испытаний. Ты читал у Хемингуэя: „Человек один не может. Нельзя теперь, чтобы человек один. Все равно человек один не может ни черта“?»
Но Кейвин не читал Хемингуэя; проблема «Иметь и не иметь» не вызывала в нем литературных реминисценций. О том, откуда я приехал в Канзас, он тоже знал весьма приблизительно; спросил, есть ли у нас агентства, в которых можно подработать на летних каникулах. Какие уж там пингвины со стронцием, какие уж там литературно-мировые проблемы — у Ваверса до них руки не доходили.
Кейвин Ваверс совершенно точно знает, что хорошие фотожурналисты зарабатывают и по двадцать, и по сорок, и даже по сто тысяч в год; он умеет считать чужие деньги и видит в этом великий смысл: они превратились в эквивалент положения и репутации, маячащих впереди. Размеры чужих заработков стали приметой качества, пока еще не обретенного.
Что же, сегодня Кейвин ездит в очень старом, очень маленьком и очень дешевом «фольксвагене» и в предчувствии «кадиллака», роскошных обедов нью-йоркского ресторана «Павильон» или хотя бы канзасского «Кроун центр» завтракает в дешевой забегаловке.
Итак, яичницу мы съели, перебирая цифры и другие подробности студенческой жизни Ваверса. Парень весь в долгах, и совершенно естественно, что он высчитывает, как расплатиться. Начав учиться в университете, он взял в банке девять тысяч долларов из расчета четырех процентов годовых; срок займа — десять лет. Прошло четыре года, инфляция сделала заемный капитал Кейвина далеко не таким надежным, как это могло показаться, — плата за обучение возросла, и даже фотопленка подорожала. Все же мой собеседник надеется, что постепенно он совершит все, дабы получить с государства за свои унижения и трудности. Отношения между американским студентом Ваверсом и Америкой сложились так, что обе стороны ощущают взаимную привязанность, но не прочь друг друга надуть. Это отношения, которые, условно говоря, называются деловыми, а на самом деле социальны, ибо человек дела — бизнесмен, говоря по-английски, — одна из основ американского общества, курица, несущая золотые яйца богатства ему и себе. Бизнесменом может быть и промышленник, выпускающий холодильники, и человек, торгующий ими, и тот, кто еще лишь собирается холодильник приобрести. Студент, фермер, писатель, рабочий тоже могут быть бизнесменами, все зависит от твоих взаимоотношений с окружающим миром и способов барахтанья в нем.
Стоп! Написав эти слова, я совершенно отчетливо ощутил, что забираюсь в теоретические дебри. Как же это я так? А дело, наверное, в том, что, прикасаясь к чужой жизни, неизбежно пытаешься уразуметь законы, организующие эту вот самую чужую жизнь, раз уж ты назвался писателем. А вспомнив о бизнесе, можно вспоминать обо всем. Я ведь знаком кое с кем из делячествующих в изящной словесности, считающих, что писательский профессионализм сродни профессионализму плотника, лихо заколачивающего гвоздики в деревянную стену. Так-то оно так, если не учитывать, что литературные гвозди вонзаются в очень болезненную, хотя и несуществующую, как выяснилось, человеческую душу. Золотое яйцо, снесенное деловитой курицей, может оказаться просто стеклянным шариком с амальгамой внутри. Игрушкой для несуществующей елки, бусинкой от ненанизанных бус… Ах, уважаемый моралист, вам еще по Америке ездить и ездить, а вы уже раскладываете по лакированным полочкам даже грядущие впечатления! Как же это вы так? Американские студиозусы изменились — это было самым первым из потрясений, — но Америка велика…
Даже поговорив с собой на разные нравоучительные темы, я не могу восстановить своих впечатлений с первоначальной четкостью; на разговоры с первыми из моих студентов накладываются беседы со следующими, на впечатлениях от этого путешествия нарастает память о предыдущих. Все-таки хорошо, что мне встретился студент-журналист: другие бывали и не похожими на него, — я расскажу о них тоже, но все-таки Кейвин Ваверс был типичен — хоть портрет его на обложке печатай, — продукт изменившихся времен, деловой мальчик с миникомпьютером в кармане рубахи.
Мы сидели в «Субмарине», допивая по третьей чашечке кофе, и Кейвин был успокоен сиюминутной сытостью, в общем не самым характерным из студенческих ощущений. Он раскрыл папку и раскладывал передо мной фотографии своих модельерш-сокурсниц. Это были снимки, рекламирующие шарфы: длинные полосы красивой ткани казались невесомыми, они парили в воздухе, едва прикасаясь к телам девушек. Шарфы жили своей, независимой ни от кого жизнью, и мой собеседник гордился, что это он, студент Кейвин Ваверс, оживил их. Мотоциклисты в разноцветных марсианских шеломах пролетали мимо кафе. Модельерши казались частью странного, почти ирреального мира мотоциклистов, в котором выключен звук, и шарфы растворялись в дымовых шлейфах «судзуки» с никелированными баками. (Кстати, «бак» на бытовом американском языке — это «доллар», а бензобак на том языке называется «танк»; что касается танков, то они мимо нас не ездили, но за двести пятьдесят тысяч долларов, уходящих на покупку одного стандартного «леопарда» с пушками и всем, что ему полагается, весь курс Кейвина можно было бы учить бесплатно целый год. И даже дольше. И еще остались бы деньги, чтобы купить всем курсовым отличникам в качестве поощрения по автомобилю, а неуспевающих студентов какое-то время кормить яичницей в «Субмарине». Такой вот поток ассоциаций.)
Мы беседовали о танках, учебниках, стихах и технике фотографической съемки — официантки нас не обижали, «Субмарина» становилась кафе. Впрочем, часы посетительского пика еще не настали, и именно поэтому официантки не проявляли направленной агрессивности. Они расслабленно стояли в углу, словно ковбои на ранчо, отпустившие мустангов на зеленые сочные лужайки и получившие время для отдыха. Кейвин Ваверс тоже чуть-чуть смахивал на ковбоя с рекламы, и в его манерах было что-то ковбойско-фермерское. Стиль поведения, едва ли не самый распространенный в стране.
Кстати, нет ничего необычного в том, что студент (он) и профессор университета, пусть даже временный, (я) вдвоем пришли в «Субмарину». Все это в порядке вещей, так же как приглашение профессорами студентов на домашние коктейль-парти (и наоборот; мне очень много раз приходилось бывать на студенческих вечеринках, где на равных веселились профессора). Одежный демократизм выглядит как массовый отказ от круглогодичных пиджачных пар (вместо них бьют все рекорды популярности «лезер-сьюты» — нечто вроде усовершенствованных толстовок). Когда два человека встречаются и с радостным воплем хлопают друг друга по спинам, восклицая: «Хелло, Джим!», «Хелло, Джэк!» — это не говорит ровным счетом ни о чем. Ни о давности знакомства, ни об отношениях, ни о должностях обнимающихся людей. Из всех известных мне способов приветствия первый момент общения двух людей в Америке больше всего напоминает ритуальные объятия на тбилисском вокзале, после которых оказывается, что ты жарко перецеловался с людьми, пришедшими встречать не тебя. Ковбойские тычки в грудь и фамильярное похлопывание по заднему карману не означают в Америке ни того, что вы с собеседником стоите на одной социальной ступеньке, ни того, что вы с ним друзья до гроба. Просто так принято.
Существуют также привычки, которые мне совсем не по душе. Американцы, например, сплошь и рядом вкушают пищу, не обнажая голов, есть даже некий особый шик в том, чтобы сесть у стойки в шляпе, сползшей на брови. Кейвин Ваверс выковыривал из зубов остатки индюшиного сэндвича и делал это, по-моему, своей оранжевой шариковой ручкой — ничего постыдного в этом не было, считается, что можно. Многие разговаривают с дамой, не вынимая рук из карманов. И так далее. Порой все это образует манеры картинно-вульгарные, но не без игривости; если надо, все мои американские приятели умеют вести себя как на приеме у королевы, великолепно зная подробности «европейского этикета». Мы, скажем, с Кейвином были надежно разделены; панибратство наше оставалось сугубо внешним, и он (младший) обязан был ощущать это каждый клеткой своего тела до тех пор, пока мы не сравняемся. Американское панибратство очень поверхностно, а в нашем с Кейвином случае — как в десятках миллионов других — оно было деловым, ничего не обозначающим. Просто так принято. Сидели мы со студентом Кейвином Ваверсом в «Субмарине», а вокруг нас происходила очень своеобразная чужая жизнь. Настало время вставать из-за стола. Мы улыбнулись друг другу, и я расплатился. Кейвин спросил разрешения пофотографировать меня; он закатит мне за это такой же бал с яичницей…
Чужая жизнь струится по своим правилам, — ничего странного, это как после лапты попытаться понять бейсбол — и похожая игра, да не та. А я ведь люблю приезжать в чужие страны, особенно интересен момент первого прикосновения к незнакомому бытию и первые моменты познания…
Попытаться понять. Утомиться от попыток, но попытаться понять, ибо в этом один из главных принципов человеческой жизни на белом свете — попытаться понять. Приходить в чужой дом доброжелательно и неназойливо, пытаясь понять. «Ну ладно, — говорил я себе, — вглядывайся. Да, Америка — иной мир, и его просто надо попытаться понять…»
На кафедре славистики Канзасского университета, где я читал лекции, один профессор заявил, что не желает со мной встречаться. Он не приходил на мои вечера и занятия, прятался у себя в кабинетике, увидев меня в другом конце коридора. На кафедре недоуменно пожимали плечами, особенно после того, как я попытался выяснить: что же за человек этот профессор, откуда такая злость? Может быть, какой-нибудь беглый бывший мой землячок или еще кто-нибудь из тех, кому советская власть прищемила хвост? Оказалось, ничего подобного, просто дурак. Обыкновенный молодой дурак англо-саксонского происхождения, родившийся и выросший в США, никогда не бывавший в Советском Союзе, но считающий, что встреча с «человеком оттуда» угрожает моральному здоровью и его, и остальной части нации. Впрочем, мыслительная ограниченность не зависит ни от географической широты, ни от возраста; многие студенты в Канзасе мыслят куда политичнее и глубже иных университетских профессоров.
…И Кейвин Ваверс, и все другие студенты, с которыми мне довелось разговаривать об их будущем, высчитывали свои перспективы в денежных единицах, — деньги регулировали отношения.
Можно назвать это любовью к бизнесу, можно фантазировать о курице, не только несущей, но и высиживающей золотые яйца; деньги делают деньги (бедность делает бедность). Человеческие достоинства и недостатки размножаются подчас простым делением, как амебы. В делах американцы неутомимы; ни один из моих североамериканских знакомых не хочет удовлетворяться достигнутым: игра по-крупному вросла в сознание, в историю и в душу народа. Сюда ведь не ехали наследные принцы и князья с гербами на золотых каретах; кроме негров, почти все прибыли сюда добровольно — лесорубы, механики, проститутки, солдаты, религиозные сектанты и хлеборобы, не нашедшие себе места на остальных континентах планеты. Практически каждый американец в третьем, четвертом, редко более отдаленном поколении — наследник европейских сорвиголов и бедняков, возмечтавших о деньгах без счета и еде до отвала. Я упрощаю очень сложный процесс и делаю это умышленно: в Америке уже выросли собственные философы, жулики, святые, изобретатели, негодяи — полный комплект, вполне собственные, ничуть не европейские. Еще Энгельс видел это, когда писал почти девяносто лет назад: «…Это именно и любопытно в Америке, что наряду с самым новым и самым революционным там преспокойно продолжает прозябать самое допотопное и устаревшее». Иногда Америка весела, иногда становится нудной, иногда же похожа на мальчика, увиденного мной в аэропорту Мемфиса, штат Теннесси. Маленький негритенок нес пять апельсинов; плоды не помещались в его ручках, и то один, то другой выпадал из объятий. Мальчик наклонялся, подымал и в это же время ронял еще один апельсин. Я захотел помочь и взял апельсин с пола, но собственник золотого плода с воем так ринулся ко мне забирать свое сокровище, что растерял все остальные апельсины…
Здесь свои правила всех игр и собственные знаменитые игроки. Их сортируют вскоре после рождения — по интеллектуальным индексам, родительским связям, школам, университетам, а затем они врастают в толпу и большинство должно пробиться сквозь нее самостоятельно, каждый до поры до времени проталкивается в одиночку. Недавно я прочел в одном из американских еженедельников, как дети дипломатов США, учившиеся по нескольку лет в московских школах, жаловались, что им не легко дома — их приучали к коллективизму, а это ведь для них словно потеря боксером защитного рефлекса. Куда уж: позанимавшись в танцклассе, трудно выступать в личном первенстве по дзю-до. А выступать надобно. Не раз и не два знакомые американцы без особого сожаления говорили о том, что тот или другой наш общий знакомый проиграл — лишился должности, работы, денег, — лишился чего-нибудь жизненно важного. Это значило, что некто более энергичный, ловкий и, возможно, более одаренный занял освободившееся место. Здесь жалеют редко и неохотно, а «лузеров» — терпящих жизненные катастрофы — не жалеют вовсе. Погибающего с голодухи, может быть, накормят в Армии спасения, в каком-нибудь благотворительном фонде могут дать немного одежды и денег. Но человек, униженно протянувший руку за помощью, мгновенно теряет в общественной стоимости: он сдался, выбыл.
В Лос-Анджелесе я смотрел по телевидению репортаж о первом утре после президентских выборов — Джеральд Форд уходил из Белого дома, где он узнал ночью результаты голосования. Репортеры подглядели, как из боковой двери один за другим выскальзывают музыканты, подняв воротники плащей: президент пригласил их поиграть на балу по случаю своей победы, а бал пришлось отменить. Последним, прячась за тумбу своего инструмента, вышел контрабасист. Люди, вместе с которыми я смотрел передачу, накануне голосовали за Форда и не делали секрета из этого. Но голосовали они вчера. «Ну и президент был у нас», — заметила женщина, грустно покачав головой. «Никуда не годный, — согласился с ней муж. — Яйцо-болтун…» Это не считается беспринципностью — всего лишь нормальная реакция на «лузера»; кроме того, победитель прав, и да здравствует победитель!
Стоп! Я снова отвлекаюсь. С чего мы сегодня начали? Ну конечно же «ab ovo» — «с яйца».
Телевизор прекратил разговоры о президентских выборах, тоже утратив интерес к проигравшему, и на экране — внезапно, вспышкой — появился молчаливый человек с гибкими пальцами фокусника из варьете. В пальцах он держал желтоватое куриное яйцо со светло-коричневыми крапинками. Сосредоточенный человек покатал яйцо между ладонями, заполнившими телеэкран, и воткнул его в странного вида приспособление. У человека было всего двадцать секунд, потому что время телевизионной рекламы строго лимитируется, и вот за эти-то двадцать секунд он изготовил яйцо кубической формы и предложил его нам. Сосредоточенный человек перечислил множество преимуществ, коими обладают яйца кубической формы, если на минуту отстраниться от достоинств, так сказать, государственного масштаба, то все равно для нас должно было стать бесспорным, что кубические яйца легче впишутся в современный интерьер, а вареные ни за что не скатятся со стола. Вот так. Изобрел машинку некий Стен Паргман из Лос-Анджелеса, и раз ее рекламируют по телевидению, значит, выпуск машинки окупается и вещь эта чрезвычайно полезна. Кстати, яйцо может выглядеть необычно не только снаружи: в каталоге рождественских подарков на 1977 год числится белая пятнадцатидолларовая машина размером с электрическую кофемолку — машина умеет смешивать желток с белком, не нарушая целости скорлупы. Машинку можно выписать по почте — номер ее по каталогу 902 528. Кубатура яйца…
Колумб, открывший Америку в новые времена, не смог назвать ее своим именем, но зато «колумбово яйцо» запечатлелось в истории. Великий мореплаватель утолил заботы сановника, пожелавшего увидеть куриное яйцо стоящим вертикально. Генуэзец сделал все вполне по-американски: просто надбил яйцо с тупого конца и поставил его перпендикулярно столу. Случилось это в XV столетии на обеде у кардинала Мендозы. Так открыватель Америки обрел «яичную легенду».
Видите, как все точно. Известны имена изобретателей и героев. В качестве рекордного достижения зарегистрировано даже то, что некий Дуглас Л. Барч в ресторане города Мобил, штат Алабама, в начале мая 1975 года слопал за сто тридцать секунд тридцать два яйца всмятку; очень этим прославился Дуглас Л. Барч.
(Еще одну историю, связанную с продуктами жизнедеятельности североамериканских несушек, рассказал мне в Киеве наш хороший певец Дмитро Гнатюк. К сожалению, он не знал имени главного героя этой истории, а она такова. Несколько лет назад Гнатюк гастролировал в Северной Америке, и разномастные антисоветские крикуны не раз грозились сорвать его концерты. Однажды, стоя на сцене, певец увидел, как в ложе напротив некий побледневший от волнения и страха юноша со взором горящим подымает вверх белое куриное яйцо, явно собираясь швырнуть его на сцену. «Я пел, глядя на него, — рассказывал мне Гнатюк, — и вдруг увидел, как по руке юноши потекла бело-желтая масса: от волнения яйцеметатель раздавил скорлупу еще до броска. Глядя на него, я допел до конца, увидел, как юноша кинулся наутек из ложи, а люди, привлеченные странным запахом, глядели ему вслед». Увы, событие осталось не зарегистрированным среди рекордов и в полицейской хронике).
Вот видите, сколько всего соединилось в одном — и не очень долгом — рассказе, начатом «ab ovo» — «с яйца», как две тысячи лет назад в своем произведении «Арс поэтика» предлагал начинать все повествования Квинтий Гораций Флакк, знаменитый римский поэт. Рассказ должен развиваться последовательно: ведь нельзя дважды войти в одну и ту же реку, как говаривали древние мудрецы.
Нельзя? Тогда снова давайте возвратимся из короткого путешествия по манускриптам Рима в новые времена, но не переводите ваши часы с начала эры на несколько столетий вперед: для примера, который я приведу, они не понадобятся, — можно попросту вышвырнуть их в реку времени сквозь аварийный люк авиалайнера. Того самого «конкорда», что был оборудован «Эр Франс» специально к встрече Нового года. Перед полуночным вылетом сверхзвукового самолета из парижского аэропорта имени де Голля пассажиры встречают Новый год, затем «конкорд» развивает скорость тысячу триста пятьдесят миль в час — это выше скорости, с которой вращается Земля. Посему на высоте одиннадцать миль над Атлантикой случится вторая полночь, и пассажиры встретят еще один Новый год. В вашингтонский аэропорт имени Даллеса «конкорд» прибывает в 9.30 вечера по местному времени — до новогоднего бала во французском посольстве два часа с лишним. Вот и все, что можно было сделать при помощи «Эр Франс» со временем и с собой за четыре тысячи восемьсот пятьдесят долларов. «Конкорд» похож на только что проклюнувшегося длинношеего птенчика. «Ab ovo» — «от яйца». Много всяких птиц на свете, и самолет — одна из них.
Люди по-разному зарабатывают и тратят деньги; люди ходят пешком, ездят на велосипедах и летают на сверхзвуковых лайнерах. Когда на десятках языков они в Америке рассказывают своим разноцветным детям сказочку вроде: «Жили-были дед да баба, была у них курочка ряба. Снесла курочка яичко…», — то имеется в виду, что американская курочка несет очень много яичек и каждому иное.
Я здесь не о том, что люди живут по-разному, — все мы об этом знаем. Мне всегда была интересна реакция, с которой американские знакомые воспринимали неожиданную, нетрадиционную весть, пусть даже сообщение о встрече Нового года на «конкорде». Часть из них, — те, скажем, кто работает в прогрессивной прессе, — восклицали нечто вроде: «У-у, буржуи!» — и в своей газете разоблачали все это с четких социальных позиций. Но значительную часть населения США составляют люди, зарабатывающие не много и не мало, они стоят одинаково далеко от миллионерства и от нищеты (от миллионерства, может быть, подальше) и мечтают взобраться по лесенке чуть выше. Динамичный американский бог всегда подмигивает им: вы, мол, ребята, кое-чего достигли — дуй дальше вверх. Пропаганда внушает, что золотое яичко лежит совсем рядышком — вот оно, осталось протянуть руку; «конкорд» пролетает над головами с удалым свистом, и кажется — следующий рейс твой. О чужом успехе сообщают словно о выигрыше в тотализаторе, — дело случая, мол, не больше. Американцам круглосуточно воркуют, что все неприятности вот-вот окончатся; им толкуют о зловредности коммунистов и другой публики, мешающей этому, и многие верят, слушая сверхзвуковой шум фортуны над головами. Обыватель массов, и, встречаясь с Америкой, я всегда удивленно вижу, сколько здесь при всей ее модерновости персонажей из ильфо-петровского одесского нэпа, а люди с философией прожектеров из Черноморска живут рядом с умницами, изобретателями, философами, храбрецами.
Это все интересно, но это другая жизнь, сложная, многослойная, которую необходимо понять, потому что она по соседству с нашей. Законы американского бытия отрегулированы до последней подробности; это чужие законы, но люди по ним живут, тонут в морях своих сложностей или выбарахтываются из них. Они плутают и порой совершенно серьезно думают, что Некто в красном хочет сбросить на них Большую бомбу; людям вбивают в головы немало всякого — геральдическая птица кормит своих птенцов не одним только эликсиром дружелюбия… И все-таки нам жить на одной Земле, где океаны очень узки. Иной планеты у нас нет и не предвидится: человечество не в состоянии выбрать себе других соседей ни в космосе, ни на Земле.
…Скорость и точность реакций важны для всех. В американских школах есть тест, где ученики в течение десятка минут должны ответить на огромное количество самых разных вопросов; во многих случаях точность ответа даже не предполагается: важнее быстрота и направление реакции. Это ценится, потому что Америка очень любит выяснять, кто есть кто.
Американцев на свете больше двухсот пятнадцати миллионов, и все они разные; говорят, что в стране рассеялось еще до десяти миллионов незаприходованных, нелегально иммигрировавших мексиканцев, переплывших тайком пограничную Рио-Гранде, — незаконные американцы, они тоже все разные. Что же касается среднестатистического гражданина США, с которым ни я и никто на свете не виделся, то оному синтетическому объекту сорок пять лет от роду, жене его сорок два года, у них двое детей, которым не исполнилось еще по двадцать. Вычисленный американец выпивает шестнадцать чашек кофе в неделю, покупает ежегодно до пятисот килограммов товаров, немедленно идущих в дело, — еды, одежды. Каждые четыре года такой американец попадает в легкую автомобильную аварию, а каждые двадцать лет — в автомобильную катастрофу. Ежедневно он по три с половиной часа просиживает у телевизора и одиннадцать раз в год ходит в кино. Ежегодно пишет двести пятьдесят писем и восемьсот девяносто пять раз звонит по телефону. А еще съедает за год сто два фунта сахара, сто двадцать шесть фунтов хлеба и уже упомянутые двести восемьдесят семь яиц…
На самом же деле каждый живет по-своему, — если складывать безработного с Рокфеллером, получается чепуха, а не статистика, но я пытаюсь рассказывать о подробностях чужих жизней — в них все важно. Да, едва не забыл одну из таких подробностей: поздней осенью, в День благодарения, едва ли не каждая американская семья — практически без исключений, опираюсь здесь и на собственный опыт — ест жареного индюка. В не густо заселенной индейцами и еще не колонизированной Америке когда-то стаями водились дикие индюки. Первые переселенцы из Европы вдохновенно били их сапогами, палками и чем придется, да так усердно, что дикие индюки не сохранились даже в виде музейных чучел. Но выжили эмигранты, питавшиеся индюшатиной — первым даром незнакомого континента. Когда в 1776 году шли дискуссии о гербе новорожденных Соединенных Штатов, Бенджамин Франклин настоятельно предлагал, чтобы американским национальным символом стал дикий индюк. Но — ничего не поделаешь — в геральдическом соревновании победил белоголовый орел, а дикому индюку было уготовано место на этикетке восьмилетнего кукурузного виски, выпускаемого в штате Кентукки. Что ж, орел так орел, — был бы полет его разумен и благороден. Я не умею различать индюшиных и орлиных яиц, но пускай все они сохраняют в своей овальности беспрерывную жизнь. Ведь если то и другое яйцо изувечить, придав им форму куба, то они, согласно рекламе, замечательно впишутся в современные интерьеры, но будут мертвы и бесплодны. Думаю, что Америке это не нужно; люди обладают здесь рациональным умением строить и разрушать, обретать и терять, финишировать и стартовать, по сто раз начиная все сначала, «ab ovo» — «от яйца».
…В маленьком городишке хлебородного штата Канзас, где у шоссе стоят домовитые, наполненные элеваторы, а люди, если они студенты, приходят сюда из хлопотливой Америки подучиться и возвращаются в Америку работать в очень высоких и деловых домах, — многое можно увидеть и обсудить, потому что все здесь на виду. «Вот поедете вы в Нью-Йорк, — говорили мне, — в наш всеобщий проходной двор. Там все суматошнее и по-другому. Но не ограничивайтесь Нью-Йорком, у вас и так много пишут о нем, у нас тоже о нем пишут немало. Это ведь „найс плейс ту визит“ — „славное местечко для посещения“, не больше. Заезжайте в Нью-Йорк и возвращайтесь сюда пожить — в Лоуренсе слышно, как по утрам разбивают над сковородами яичную скорлупу. Мы не обо всем еще переговорили, вы же сами чувствуете, что разговоры только лишь начались…»
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
§ 2 «…Анна не метала икру и не откладывала яйца…»
§ 2 «…Анна не метала икру и не откладывала яйца…» Когда после прогулки Анна вернулась в свое жилище, первое, что неприятно поразило самку – контраст между ее постоянным брачным партнером Карениным и Вронским. До тесной прогулки с Вронским Анна уже как-то притерпелась к
Яйца
Яйца 1. Понятие яйцаЯйцо – это клетка женского рода, которая является носителем жизни на земле. Также, яйцо – это часть мужского полового члена, вкусная и питательная еда, драгоценность Фаберже, предмет творческого онанизма со стороны музыкантов, писателей,
Михаил Сергеевич все яйца в одну корзину не кладет!
Михаил Сергеевич все яйца в одну корзину не кладет! Тема номер один в октябре — ельцинский указ о передаче комплекса зданий Горбачев-фонда финансовой академии. Это — семь домов на Ленинградском проспекте Москвы, дачное хозяйство «Новое Нагорное», бывшее партийное
2-я пятница октября Международный день яйца (1996)
2-я пятница октября Международный день яйца (1996) КРУТЫЕ По решению Международной яичной комиссии с 1996 года во вторую пятницу октября отмечается Всемирный день яйца. Страны-яйцепроизводители откликнулись на эту инициативу восторженно. О реакции яйцекладущих ничего не
У этого парня есть яйца!
У этого парня есть яйца! Коренное население Северо-Американских Соединенных Штатов воспринимало произведения «Машины времени» более чем спокойно. Лишь наши эмигранты и работавшие в США россияне с первых аккордов начинали подпевать, приплясывать, хлопать, что вызывало
Почем золотые яйца?
Почем золотые яйца? Решение президента Медведева о ликвидации госкорпораций, прозвучавшее в его Послании Федеральному собранию РФ 12.09.2009 г., — это свидетельство его действительной решимости бороться с коррупцией. Создание государственных корпораций было одним из
Польский след и яйца судьбы
Польский след и яйца судьбы В нашем «журналистском расследовании» мы снова и снова натыкаемся на «польский след». Уже слышен нестройный хор голосов товарищей с фамилией на -ский: «Почему поляки всегда виноватые?!»©. Действительно, что выиграла Польша от объявления
Глава 2. «Ab ovo» значит: «От яйца»
Глава 2. «Ab ovo» значит: «От яйца» Русские привыкли «танцевать от печки». А римляне говорили: «Ab ovo», что буквально значит: «От яйца», в переносном смысле — «С самого начала».Сейчас всё чаще в мире (и даже — в России) начинают понимать, что если хочешь иметь верный взгляд на
№ 7 Генералы и их яйца
№ 7 Генералы и их яйца Уважаемый Владимир Владимирович! Не знаю, с чего начать[10]. Кругом такая каша. Басаев руководил налетом на Ингушетию; снялся на видео в захваченном складе оружия.Приближается 60-летие Победы. Все чаще ощущаем себя тружениками тыла. Новости – как
9. Яйца Бенедикт (Eggs Benedict)
9. Яйца Бенедикт (Eggs Benedict) Яйца Бенедикт так же неразрывно связаны с феноменом бранча, как молния с громом. А бранч от обычного завтрака отличается не только более поздним часом трапезы и меню, тяготеющим по репертуару к обеденному, но и тем, что за ним принято идти
Золотые яйца
Золотые яйца Какие же действия в связи с описанными выше особенностями продажи доктору может предпринять медпредставитель? Прежде всего, необходимо искать выгоды для доктора и озвучивать их. Накаждый из перечисленных выше страхов доктора у рэпа должна найтись выгода.
Золотые яйца ТНТ
Золотые яйца ТНТ ТелевЕдение Золотые яйца ТНТ ТЕЛЕПРОДУКТ Золотые яйца ТНТ. Протухшие и свежие – Бей его! Мирового злодея! Ты распустил гадов! Михаил Булгаков «Роковые яйца» Хитроумные продюсеры популярного развлекательного канала разложили свои креативные яйца в
Роковые яйца
Роковые яйца Мир продолжает обсуждать историю американки Нади Салеман, которая с помощью искусственного оплодотворения родила восьмерых близнецов. У нее уже было шестеро детей.Начать можно издалека: от темы литературных жанров и их эволюции. На пороге двадцатого века
Роковые яйца
Роковые яйца Литература Роковые яйца ПОДНИМИТЕ МНЕ ВЕКИ Лев ПИРОГОВ Говорю, что-то будет. Кошке сдохнуть – блохи волнуются, проявляют активность. И в литературе описано: перед войной жёны влекут мужей на сеновалы: инстинкт биорегуляции, все дела. Самка литератора – это
Яйца судьбы
Яйца судьбы Илья Малашенков 21 августа 2014 0 Культура о фильме "Поддубный" "Поддубный" (Россия, 2014, режиссер - Глеб Орлов, в ролях: Михаил Пореченков, Катерина Шпица, Роман Мадянов, Владимир Ильин, Дени Лаван, Александр Михайлов, Юрий Колокольников). - Мужики, кто хочет сняться
Яйца и птицы
Яйца и птицы Яйца и птицы Сергей ТЮНИН Игорь ВАРЧЕНКО