Тонино Гуэрра
Тонино Гуэрра
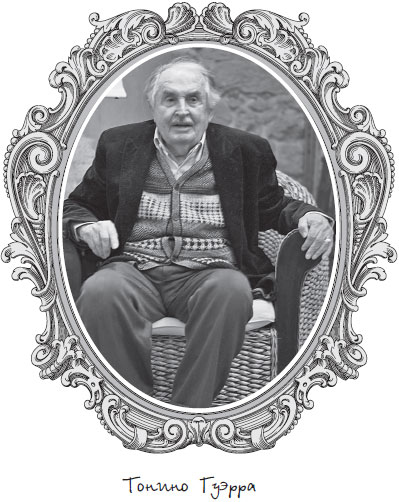
Шел снег. Для февраля – нормально… но не в Италии. А снег шел густой; снежинки, крупные, как тропические бабочки, садились на кусты, на листья, на только-только завязавшиеся бутоны цветов и покрывали их пушистым одеялом… Мы ехали и ехали, гораздо дольше, чем планировалось, потому что нас заносило – машины были на «летнем ходу». Все как в замедленном движении: и то, как мы ехали, и то, как кружились и опускались снежные бабочки… В этом была поэзия.
Поэзия продолжалась весь день, она достигла апогея во время интервью с Гуэрра. Каждое слово, каждое движение, каждый жест – все поэзия.
Мало кто может сказать: я разговаривал с гением. Я теперь могу. И вопрос не в уме, не в эрудиции… Гению вообще не требуются объяснения – ему нет объяснений, нет доказательств.
Как же мне повезло!
* * *
Познер: Скажите, пожалуйста, почему вы не любите деревню, в которой родились, – Сантарканджело-ди-Романья? Она вам не нравится? Вы говорите, что у вас сложные отношения с этим местом и вы предпочитаете туда не ездить. Почему?
Гуэрра: Мое детство прошло в Пеннабилли, а не в Сантарканджело. Мои родители, крестьяне, ездили сюда на ярмарку продавать зелень. И когда мама повела меня к врачу, у нее спросили: «Почему вы не оставляете его в Пеннабилли, здесь же такой воздух замечательный!» (А они все боялись тогда за легкие у детей.) И меня возили сюда, в Пеннабилли. Так это стало местом моего детства. И когда после более чем тридцати лет работы в Риме я решил возвратиться в Романью, я подумал, что лучше поеду в Пеннабилли, где буду ближе к природе. Услышу дождь, увижу, как идет снег…
Познер: Вы говорили о своем детстве. Оно прошло в фашистской стране, вы росли при фашизме. Это как-то на вас подействовало?
Гуэрра: Конечно! Я рос в фашистской стране и был маленьким фашистом. Но потом фашисты взяли меня, молодого, арестовали, послали в германский лагерь…
Познер: А почему? Что вы сделали?
Гуэрра: Я не был тем человеком, который любил фашизм, и открыто говорил, что мы проиграем войну. Я всегда был интеллигентным и немного опасным. Я могу себя назвать коммунистом-дзен. Мой коммунизм имеет что-то от святого Франциска Ассизского – что-то духовное и религиозное. Моя мать была служкой в церкви. Монашка, терциария это называется. В больницах она помогала служить священникам мессу – на латыни. Я знал, что она неграмотная, и, когда она говорила, ее язык, конечно, не был совершенен. Я ей сказал однажды: «Мама, вас не понимает никто». Она же посмотрела на меня и указала пальцем вверх: «Он меня понимает». Про этот эпизод я рассказывал и на курсах, высших режиссерских курсах в Москве, когда преподавал ребятам.
Познер: А вы сами религиозный человек?
Гуэрра: Трудно. Трудно. Хотел бы. Трудно. Я хотел бы, хотел бы… Было прекрасно работать с Тарковским. Я видел его духовность и его спокойную убежденность. Он верил… Как человек может жить спокойно? Вот мне, например, девяносто один год, со дня на день я могу умереть, и я не знаю, что ждет меня после смерти. А что говорил Феллини? Он всегда говорил мне на этот счет: «Может быть, нас ждет интересное путешествие».
Познер: Вернемся в немецкий лагерь, в Тосдорф. Что он для вас? Лагерь научил вас чему-то?
Гуэрра: Сейчас лагерь для меня – прекраснейшая сказка, в которой я жил. Это был сон, каждый день я мог умереть, каждый день меня окружала исключительная поэзия. И каждый день эта обостренность давала мне возможность видеть удивительные вещи… Хочу воспользоваться случаем, чтобы поблагодарить одну русскую женщину – ее звали Зина. Делаю я это впервые. Нас бросили на передовую, где мы работали на оборудовании, которое производило газ, и надо было двигаться очень быстро, примерно так, как Чарли Чаплин в своих фильмах, в «Новых временах». А за соседним станком стояла женщина, она так умело и быстро справлялась со своей работой, что у нее хватало времени еще и мне помогать, а я-то не успевал, мог взорваться. Я ее больше никогда не видел, но помню, как она мне помогла. Зина, огромное спасибо!.. Теперь это все как сон. Например, меня берут и бросают на рытье траншей, на передовую, и мы бежим под выстрелами, и рядом со мной бежит пожилой человек – для меня тогда пожилой, потому что мне в ту пору было двадцать лет (в лагере я был с двадцати до двадцати двух). Пожилой человек, казалось мне тогда. И он куда-то в сторону бежит. Я его спрашиваю: «Куда ты? Куда ты?» «Оставь, – он отвечает, – я иду продавать чулки». «Как чулки? Какие чулки? На передовой ты идешь продавать чулки? Кому?» Он говорит: «Тут солдаты, они всегда покупают для жен чулки. Даже на передовой». И убегает. После работы нас везут в какую-то полуразрушенную церковь. Бросают на сено, чтоб мы там спали. И вот послушайте… Я только что рассказал очень комичную историю, но в ту пору этот комизм не замечался. А сейчас это становится высокой поэзией. В полночь наконец возвращается этот итальянец… От этого можно заплакать… Он приносит с собой банку меда. И каждому из нас дает по ложке меда. Слезы просто наворачиваются. Какая же это красота!
Познер: Вы использовали слово «поэзия». Вы сами начали писать стихи в лагере?
Гуэрра: Да. Немного. Совсем немного. Но что-то я создал тогда.
Познер: Как же вы их записывали, ведь у вас не было карандашей? Или были?
Гуэрра: Я не записывал их, а рассказывал. На память. Потому что не было ни карандаша, ни ручки. И когда меня просили в бараке, чтобы отвлечься, я их рассказывал. А там был один человек – он работал фельдшером. Он записывал за мной эти стихи, оказывается. И когда я вышел, он подарил мне записи. После освобождения я написал только одно стихотворение о лагере. Оно называется «Бабочка». Всего четыре строки:
Счастлив, действительно доволен
Я был много раз в жизни.
Но более всего – когда меня освободили в Германии
И я смог смотреть на бабочку без желания съесть ее.
Познер: Потом вы стали учителем в школе. Во-первых, чему вы учили, и во-вторых, нравилось ли вам это?
Гуэрра: Я был сумасшедшим. Сумасшедшим, но многие в Италии изучали потом мой метод. Я преподавал итальянский. Я давал всегда одну и ту же тему: «Вчера вечером за ужином». В первые дни дети писали: «Я вчера вечером ужинал, был салат, был бульон» и так далее. На следующий день я опять им говорил: «Вчера вечером за ужином». – «Простите, профессор. Мы сделали это уже». – «Нет, это было в среду. А теперь – про четверг». Они соглашались и снова приносили мне свои сочинения: «Вчера мы ели сыр» и так далее. Я говорил им: «Простите, я тоже вчера ел. Был бульон, но когда я подносил ложку бульона ко рту, мне вспомнился фильм о слонах…» И я начинал рассказывать о слонах, об Африке. Я рассказывал им о том, что я ел, и о том, что мне приходило в голову. Прежде всего что я думал, что воображал, что вспоминал. И они все спрашивали: «А какое отношение это имеет к ужину?» – «Как какое? Самое непосредственное!» – «Но как же? Это же не ужин…» В конце концов они начали писать божественно! Я даже стал собирать их работы. Они были исключительные. И полгода спустя один мальчик принес мне следующее сочинение, даже не сочинение, а исповедь: «Мне всегда очень хотелось зарезать свинью. Я хотел заколоть ее ножом. И я у всех просил дать мне ее зарезать. Но все мне говорили: «Ты же еще совсем маленький. Зачем тебе убивать свиней?» И когда пришел человек, который должен был заколоть свинью на Рождество, я к нему подбежал и попросил: «Дай мне, дай мне!» – «Ты хочешь это сделать? Хорошо». И вот свинья стоит передо мной, ее только что помыли горячей водой. И он дает мне нож… Я мечтал почувствовать, как нож врежется в горло свиньи, и услышать, как она закричит. Мне это нравилось. Я взял нож и понял, что у меня не поднимается рука. У меня нет сил. Я отдал нож и заплакал. Я плакал, потому что любил эту свинью…» Это замечательная история.
Познер: Не кажется ли вам, что в школе – в Италии, в Америке, во Франции – убивают воображение, а не развивают его?
Гуэрра: Это так. Это общество ужасно в отношении к детям. Во-первых, мы у детей отняли дедушек, бабушек… Их больше нет. Нет людей, которые рассказывали бы им сказки. Сейчас детей хотят приучить к технике. По правде говоря, телевидение – это мощное средство, но оно убивает наше воображение. Телевидение тушит фантазию, не дает ей развиваться. Должен сказать, что я был эксцентричным преподавателем, но сильным…
Познер: Каким образом вы перешли из школы в кино? Как это произошло?
Гуэрра: Прежде я сделался поэтом. Прежде чем перейти в кино. И когда состоялась первая встреча Тарковского с Феллини, Федерико спросил у него: «Тебе хорошо работается с Тонино?» А Тарковский, подумав, ответил: «Тонино – поэт. И с ним не может плохо работаться. Невозможно. Потому что поэт не интересуется действительностью как таковой. Он интересуется прежде всего эмоциями, которые способен вызвать окружающий мир… Эмоциями, которые, например, тебе дает цветок или падающий снег за окном…»
Познер: Я все-таки не понял. Как это произошло? Вы опубликовали свои стихи? Потом ушли из школы?
Гуэрра: Я опубликовал первый сборник стихов, который за мной записали в Германии. Тот фельдшер, о котором я вам говорил… У него был карандаш, он записывал за мной. Я этого не знал. Он отдал мне записи, только когда кончилась война. Однажды, в рождественскую ночь, один молодой итальянец попросил меня: «Тонино, приготовь тальятелле. Не приехал лагерный рацион. Перевернулся грузовик». – «Как же я это сделаю?» – «Словами! Словами! Словами!» – «Хорошо. С помощью слов? Хорошо». Все приготовились слушать. И я постарался вспомнить, как готовила тальятелле моя мама. Я рассыпал муку, добавил яиц… Сколько нас? Около восьмидесяти. Отлично. Много яиц потребуется. Немного соли. Я раскатал тесто, разрезал его. Рядом кипит вода, я опускаю макароны в воду. Вот, тальятелле готовы, кто хочет? Ты? Хочешь пармезан? Держи. И тебе, и тебе… Устал. А один человек говорит: «А можно мне добавку?» Смех… Добавки, да? Только слова? Да, только слова, потому что нечего было есть. Это поэзия? Я думаю, чуть-чуть да. То же самое с бабочкой…
Познер: Как же вы попали в кино? Вы не ответили.
Гуэрра: Мне предложили написать сценарий. Это была первая роль Марчелло Мастрояни. Сценарий к фильму, действие которого происходило в Романье, в этой местности. И нужно было знать не только место, но и диалект. Я работал учителем и получал тридцать девять тысяч лир, а продюсер фильма сказал мне: «Если приедешь в Рим, то будешь получать триста тысяч». Я, как проститутка, поехал. Поехал в Рим и десять лет жил впроголодь.
Познер: В кино вы работали с Феллини, Антониони, Рози, Тавиани…
Гуэрра: Тавиани, Тарковский, Ангелопулус… И многие другие…
Познер: У нас нет времени, чтобы поговорить обо всех, но все-таки расскажите, каким был Феллини? Что это за человек?
Гуэрра: Это был великий человек. Исключительный. Мы сейчас не говорим о фильмах, плохих, хороших… Как человек он был исключительный. В этом году на Рождество… на Рождество в Римини… я рассказал о небольшом эпизоде с Феллини, о котором прежде не рассказывал. Много лет назад ближе к вечеру вдруг он мне позвонил: «Поедем в студию, нам кое-что нужно исправить…» Я не помню, это был то ли «Марго», то ли другой какой-то фильм, над которым мы работали. И мы поехали к нему на студию. Войдя, Феллини сказал: «Тонино, не зажигай свет». Мы сели в темноте, и спустя некоторое время я спросил: «Федерико, зачем мы так сидим?» Он ответил: «Потому что в это время перед Рождеством я всегда вот так сижу и вспоминаю аромат пассателле, которые готовила моя мама». Этот великий человек, который любил красивых женщин, шикарные вещи, также любил и свои детские воспоминания… Каждое утро на протяжении двадцати лет тридцать или сорок пять минут он уделял тому, чтобы помочь людям. Вы знаете, что все женщины любили Феллини? Не только в Италии, в Америке тоже. Я не могу сказать, были ли у него другие женщины, но скажу следующее – о том, что меня очень трогало в нем. В молодости у него была невеста. И когда ей исполнилось уже семьдесят– семьдесят пять лет, он продолжал ей звонить, чтобы спросить, как дела, не нужно ли ей что-нибудь – врач или что-то еще. Он продолжал к ней относиться с невероятной заботой и нежностью. Это еще одна замечательная черта Федерико… Покидая вечером студию, мы часто шли бродить по Риму, но так, чтобы нас никто не заметил. Мы творили безумные вещи. Например, проходим мимо большой и совсем пустой парикмахерской, с большими удобными креслами. Заходим и садимся в кресла. «Что желаете?» – нас спрашивают. «Нет, ничего. Мы просто отдыхаем. Очень удобные кресла». «Понимаем, – отвечают, – но мы должны работать». «А мы должны отдыхать», – возражаем мы. И так одно баловство за другим. Единственная проблема Федерико – мазь для волос. А то, что мы вытворяли, это было нечто невероятное…
Познер: Антониони был совсем другим человеком?
Гуэрра: Другим. Другим. Антониони открыто любил женщин. Он любил путешествовать. Феллини – нет. А Антониони обожал смотреть новые места. У него была очень интересная особенность. Вот мы едем в Лондон снимать картину «Крупным планом». Первое, что он там делает, – знакомится со всеми художниками. Со всеми. Потом мы едем в Нью-Йорк. И там он тоже знакомится со всеми художниками. Со всеми фотографами. И со всеми писателями. И долго, внимательно рассматривает город… Не слова его привлекали, а свет этого города, сам город. Большое путешествие Феллини – это путешествие внутрь себя самого. В свое детство. Не то чтобы Микеланджело (Антониони. – В.П.) не заглядывал в себя, это скорее было путешествие памяти, ума, путешествие в литературу. Так или иначе, совсем другое путешествие.



«Сад камней» Тонино Гуэрры: Параджанов, Антониони, Тарковский

Мастерская Тонино Гуэрры
Познер: Путешествие внутрь себя, путешествие ума и познания – это все память. Значит, память важна для творения?
Гуэрра: Очень важна. Не существует ни одного писателя, ни одного творца, который не обращался бы к своей памяти. Нет никого, кому память не помогала бы во время работы, потому что именно в детстве мы познаем мир.
Познер: Феллини, Антониони, Висконти, Де Сика – великое итальянское кино. Куда оно делось? Где оно? Ничего нет.
Гуэрра: Неправда. Это трудный момент для итальянского кино. Очень трудный. Но с другой стороны, мы не можем так говорить. После войны был подъем итальянского кино, неореализм. Должно пройти какое-то время. Сейчас у нас есть Ольми, Торнаторе – вот уже два человека. Тавиани, Беллоккьо – тоже великие режиссеры. Они есть еще. Они живы. Но имеется одно отличие. В послевоенное время у всех наций – у русских, итальянцев, англичан, американцев – была общая тема, а именно послевоенный период. Мы говорили об одном и том же – о возрождении после войны. А в последние двадцать лет у каждого государства свои проблемы, нас больше ничего не объединяет. Мы немного потерялись. Потом американцы стали использовать новейшую технику… Но нам необходимо вернуться к поэзии. Со всей современной техникой нам следует научиться смотреть на мир нежнее, с душой.
Познер: Вы думаете, что это возможно? Что мир реально вернется к тому, о чем вы говорите?
Гуэрра: Я надеюсь. В противном случае многое умрет, как умер, например, кинозал в Европе. В России еще многие продолжают ходить в кино. А в Италии больше нет вечерней церемонии похода в кинотеатр. Мы больше не ходим туда, не пристаем там к женщинам. Сейчас есть телевидение. Возможно, будут развиваться телевизионные программы, а также останется популярным театр, концерты. Я сейчас про Европу говорю.
Познер: Вам нравится сегодняшний мир?
Гуэрра: Не очень. Мне нравится жить. Жизнь прекрасна! Мир сегодня не представляет собой ничего хорошего. Но все может улучшиться. Есть периоды хорошие, есть плохие.
Познер: Если бы переводила не ваша жена, я спросил бы вас, любите ли вы женщин?
Гуэрра: Очень. Я очень люблю женщин. Я всегда смотрю на женщин.
Познер: А русские женщины – это сложно?
Гуэрра: Это нормально.
Познер: Это как?
Гуэрра: При коммунизме многие были напуганы и многие читали. Женщины читали. Они убегали и спасались в мире литературы. Зайдя в метро, я заметил, что многие читают. Русские женщины красивые, и они читают. Сейчас уже меньше. Культура – это единственное, что делает женщин красивыми, гораздо лучше, чем пластические хирурги… Это сразу видно по глазам, они блестят совсем иначе… Я должен идти обедать.
Познер: Дайте еще пять минут. Предположим, я марсианин, пришел к вам и говорю: «Тонино, у меня есть время, чтобы поехать в одно только место в Италии, только одно, потом я должен вернуться на Марс. Скажите, что я должен посмотреть?»
Гуэрра: Что бы я выбрал? Многие порекомендовали бы Венецию, но я люблю маленькую Италию. Сразу за Неаполем идет Амальфитанское побережье, и там располагается городок Равелло. Я посоветовал бы именно это место. Это мечта. Небольшой городок над морем с римскими виллами. Еще могу посоветовать Остуни в Апулии. Город белый, как молоко. Там есть исключительной красоты церковь с невероятной мозаикой на полу. Тарковский, увидев ее, чуть не упал в обморок.
Познер: Вы можете завершить для меня фразу, которую я сейчас скажу? Фраза такая: «Для меня быть итальянцем – значит…»
Гуэрра: Для меня быть итальянцем означает, возможно, быть щедрым, готовым всегда поговорить, поблагодарить ближнего за оказанную услугу, вкусно накормить друга. Но самое лучшее, что может сказать о себе человек, – это: «Я делаю добро другим». Делать добро. Но это трудно. В идеале нужно, чтобы люди любили друг друга.
Познер: Поэтому вам так нравился Папа Иоанн XXIII?
Гуэрра: Когда мы снимали «Амаркорд», Феллини всегда заходил за мной в семь утра. Он приезжал с моря, если я не ошибаюсь. Я привык выходить из дома в семь – семь пятнадцать. И перед дверью моего подъезда всегда образовывалась пробка, потому что рядом находилось здание суда. Я каждый раз переходил улицу через эту пробку, среди машин. В тот день я тоже переходил улицу, и одна машина задела меня. Я закричал. И вдруг понял, что передо мной Папа Иоанн XXIII. Я онемел. А он улыбнулся мне. Он был от меня на расстоянии вытянутой руки. Улыбнулся и благословил, разделив меня движением руки на четыре части, как арбуз. Машина уехала, все автомобили загудели. Я был ошарашен… Это хороший финал. Пойдем.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.